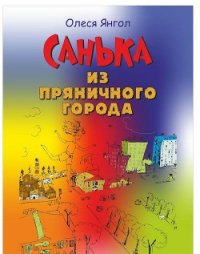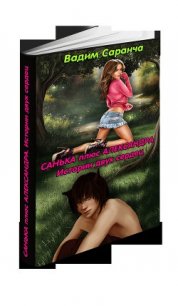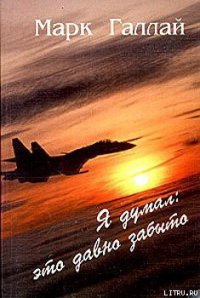Дорога стального цвета - Столповский Петр Митрофанович (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Дрожа от холода, снова спал, точнее забывался в беспокойной, тяжелой полудреме. Во сне постанывал то ли от болей в желудке, то ли от того что тупо ныли все до единой жилки, которые он усердно надрывал, работая на тунеядца Салкина.
Эта боль оборачивалась во сне образом Салкина, одетого почему-то в кургузый пиджачок, лопнувший на спине по шву. Салкин стоял на крыше вагона и кривлялся, держа в руках кошелку. Он похлопывал по ней ладонью, дескать, тут они, твои заработанные. Зуб хочет кинуться на Салкина, но не может шагу ступить, словно держит его крепкая паутина, которой он весь опутан. А Салкин заливается, наслаждаясь Зубовой беспомощностью. Он издевательски грозит ему пальцем и кричит, давясь смехом и дурашливо взвизгивая от избытка веселья: «Накажу! Рублем накажу! Пацан!..»
Зуб вконец измучился. Прошла вечность, пока в окне, закрашенном белой краской, забрезжил рассвет. Гимнастерка к тому времени почти высохла. Он решил плюнуть на все и пробираться в вагон.
Тут ему повезло — никто не обратил на него внимания. Вскоре он прямо в ботинках лежал на полке под самым потолком. Пришлось согнуться в три погибели, потому что в ногах стоял ящик, обернутый огромным старым платком.
Пусть ревизоры стаскивают его отсюда, ему все равно. Засыпая, Зуб еще успел подумать, что ни в коем случае нельзя разгибаться. Если спихнет с полки ящик — а вдруг там телевизор! — то ему не сдобровать.
43
Проснулся он от того, что в нос шибануло запахом борща. Спал он по-прежнему скрюченным, но ящика в ногах уже не было. В первое мгновение он ужаснулся: спихнул! Однако тут же сообразил, что если бы ящик загудел вниз, на проход, хозяин не стал бы беречь Зубов сон. А никто не шумел и не стаскивал его для расправы.
Он с облегчением вытянул ноги. Это было и приятно, и немного больно. Больно потому, что позвонки, да и все натруженное тело, словно закостенели в одном положении. И еще ступни словно распухли.
Поезд мерно покачивался. За окном было пасмурно. Проплывали мокрые от дождя придорожные заросли, почерневшие телеграфные столбы.
Запах борща ему не приснился. Внизу звенели ложками, аппетитно хлюпали. Кто-то беспрестанно вздыхал, явно от удовольствия. Время от времени низкий женский голос ворковал:
— Ну, Сергунчик, ну хлебни? Ты только попробуй, а потом захочешь.
— Не захочу! — капризно отвечал Сергунчик, — Там лук плавает.
— Замучилась с ним, — вздыхал низкий голос. — Чем только живет ребенок?.. Ну Сергунчик, ну ложечку. Скажи, ты любишь свою бабушку?
— Не люблю.
— О господи!..
Зуб свесил голову. Запах борща шибанул сильнее. Ели две тетки. Сбоку отрешенно сидел парень в очках, читал книгу. Лет ему было за двадцать. Вся его поза говорила, что он сам по себе и не имеет ни малейшего отношения ни к борщам, ни к чавканию.
Одна из теток — тучная, с бровями, навсегда застывшими в страдальчески-озабоченном изгибе, — старалась впихнуть ложку борща в рот вертлявому мальчику лет пяти. Тот крутил головенкой, с отвращением морщился и катал по дивану заводную машинку. На столике вперемешку лежали раскрошенное яйцо, кусочки печенья, булки, над кусанный кругалик колбасы и другая снедь — все, что, наверно, пытались затолкать в Сергунчика. Зуб облизнул сухие, потрескавшиеся губы.
— Ну, замучилась! — вздыхала женщина и принималась сама хлебать из железкой миски, какие приносят из вагона-ресторана. — А врачи-то — зла на них не хватает! Ребенок, говорят, развивается нормально. Как же нормально, если ничегошеньки не ест? С чего ему развиваться?
Другая тетка не отвечала, ела себе и ела. Была она по-крестьянски деловитая, экономная в движениях и словах. Растянутая, сто раз стиранная кофта некрасиво висела на ее худом теле. Доев, она вылила в ложку последние капли борща. Потом собрала в щепоть крошки хлеба и отправила в рот. Поднявшись с миской в руках, она потопталась в нерешительности и спросила с виноватой улыбкой:
— Где мыть-то, я прям и не знаю.
— Что мыть? — подняла на нее удивленные глаза тучная женщина. — Да кто ж моет? Заберут и так.
Тетка села, поправила на голове простенький белый платок, и с темного ее лица не сходила озабоченность. Она то и дело натыкалась взглядом на немытую миску, и тогда руки ее машинально поправляли платок. Она, видно, всегда его поправляла перед тем как встать и пойти по делам. Парень все читал, время от времени указательным пальцем надвигая очки глубже на переносицу. Надвигая, он косил глазом на соседок, на Сергунчика, и уголки его насмешливо-снисходительных губ вздрагивали. Было похоже, что парень знает и понимает такое, до чего никому за всю жизнь не дойти.
— Ну, Сергунчик, ну, золотко, — ворковала женщина. — Три ложечки осталось, бабушка за тебя все съела.
— Ешь еще.
— Ну, что ты с ним будешь делать! — Женщина в сердцах шлепнула себя по коленке. — Это же наказание, а не ребенок!
Толстая бабка вместе с ее Сергунчиком начинали злить Зуба. Каким надо быть привередливым дураком, чтобы не уплетать за обе щеки борщ и все остальное, что лежит на столике! Разве Зуб позволил бы себе вот так кочевряжиться? Он представил, каким вкусным должен быть борщ, и сглотнул слюну.
— Сергунчик, ну оставь машинку.
— Не хочет мальчик, — не выдержала тетка в кофте.
— Да как же не хочет! Что вы мне такое говорите! — возмутилась на замечание женщина. — Надо же ему чем-то жить. Если не толкать в него, так он и совсем есть перестанет.
Тетка в кофте с недоумением посмотрела на Сергунчикову бабку, но ничего не сказала. Глаза ее снова споткнулись о немытую миску. Поправив платок, она взяла ее и поднялась.
— Водицы-то чай найду?
— Вот неймется, — хмыкнула женщина. — Там, в начале вагона, если уж вам так хочется. — А когда тетка ушла, она сказала, обращаясь к парню в очках: — Деревню сразу видать.
Тот скосил на нее глаза, и уголки его губ дрогнули. Они дрогнули и тогда, когда голод согнал Зуба с полки. Не повернув головы, парень оглядел новоявленного с макушки до пят. Зуб, видимо, по всем статьям был достоин презрения парня в умных очках. И все вокруг, если смотреть сквозь эти очки, было презренно. И даже книга вызывала у него ухмылку и, наверное, раздражала. В книге, должно, не было и близко того, что знал и понимал парень.
— Сергунчик, а яичко будешь? — не унималась женщина. У нее вроде не было в жизни другой заботы, как только натолкать в Сергунчика всякой всячины по самую завязку. — Съешь, миленький, желток. Смотри, какой желтенький — как цыпленочек!
Сергунчик больше вообще не реагировал на уговоры. Ему край как хотелось вытащить из машинки железные внутренности.
— А то мальчику отдам, будешь знать! — пустилась женщина на уловку.
— Отдай! — оживился Сергунчик и приготовился смотреть, как спустившийся сверху мальчик будет поедать ненавистный желтенький желток.
Но ни тому, ни другому удовольствия не доставили. Тогда Сергунчик подскочил к столику, схватил наполовину раскрошенную булку и протянул Зубу:
— Ешь!
— Вот и поговори с ним! — мученически вздохнула женщина, отбирая у внука булку. Брови ее изобразили предельное страдание.
Зуб не выдержал такой пытки. Поднялся и пошел по вагону. Ели почти везде. А где уже не ели, там на столиках лежали горки объедков и скомканная просаленная бумага.
Посторонившись, чтобы пропустить довольную тетку с вымытой миской, Зуб увидел, что в вагон зашеп долговязый человек, в коротком белом халате. Он нес перед собой огромную плетеную корзину.
— Булки, пироги, мармелад, эвкалипт! — монотонно кричал он. — Булки, пироги, мармелад... дай пройти... эвкалипт! Зуб поспешил к нему.
— А зачем эвкалипт? — спрашивали разносчика.
— Простуду лечить, — коротко и безразлично отвечал тот. — Что берете?
— С чем пироги?
— А эвкалипт — это что?
— С рыбой. Растение такое. Что берете?
— Странно, почему именно мармелад и эвкалипт?..