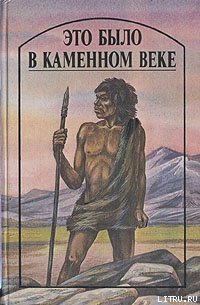Сон - Уэллс Герберт Джордж (читать книги онлайн без txt) 📗
Немало попадалось в старом Лондоне курьезных лавочек, но самыми диковинными, наверное, были все-таки аптечные лавки. Облик аптеки дошел до нас почти неизменившимся со времени так называемых Средних веков, когда Западная Европа, суеверная, грязная, отсталая, наводненная болезнями, истерзанная арабами, монголами, турками, затаилась за стенами своих замков и городов, боясь переплыть океан, вступить в сражение без лат и доспехов, грабила, отравляла, пытала, убивала из-за угла и мнила себя достойной преемницею Римской империи. Западная Европа стыдилась своих исконных наречий: она изъяснялась на скверной латыни, она не смела взглянуть в лицо фактам, рыская в поисках истины среди полустертых пергаментов и выхолощенных софизмов; она сжигала заживо мужчин и женщин, которые понимали, как смешна и абсурдна ее вера, и видела в звездах небесных всего лишь засаленную колоду гадальных карт, по которым можно предсказывать судьбу. Одним из порождений той эпохи и явилась фигура аптекаря — та самая, что известна вам по «Ромео и Джульетте». А ведь Мортимера Смита отделяли от старого Шекспира всего каких-нибудь четыре с половиной столетия! Аптекарь священнодействовал в тайном сговоре с врачами, столь же всезнающими и почти столь же невежественными, как он сам. Врач наносил на бумагу загадочные знаки и письмена; аптекарь составлял по ним лекарства. В нашей витрине были выставлены пузатые стеклянные бутыли с подкрашенной водой: красной, желтой, синей, и газовые лампы изнутри аптеки отбрасывали сквозь них на мостовую таинственные блики.
— А чучело аллигатора было? — не удержалась Файрфлай.
— Нет. Аллигаторов мы уже пережили, но зато под цветными бутылями в окне стояли великолепные фарфоровые банки с золочеными крышками. Банки были украшены мистическими надписями — сейчас, погодите-ка! Вот. Одна такая: Sem.Goriand. Другая: Rad.Sarsap. Потом… Ну как же это, постойте… На той, что в углу… Ах, да! Marant.Ar. А напротив — C.Cincordif. За прилавком, на виду у покупателей, красовались аккуратные ящички, поблескивающие золотыми вычурными буквами: Pil.Rhubarb или Pil.Antibil., а под ними в боевом порядке — снова бутыли, флаконы, пузырьки: Ol.Amyg.; Tinct.Jod. [12] — таинственные, заманчивые… Я ни разу не видел, чтобы мистер Хамберг хоть что-нибудь вынул (я уж не говорю — продал) из этих ученых ящичков и бутылей. Для повседневной торговли шел товар совсем другого сорта; яркие пакетики, грудами наваленные по всему прилавку, веселые маленькие коробочки, без зазрения совести расхваливавшие себя на все голоса: «Зубная паста „Гаммидж“, душистая, способствующая пищеварению!», «Хупер», мозольный пластырь!», «Люкстон» — средство для дам», «Пилюли „Тинкер“ на все случаи жизни»… То был наш ходовой товар, и покупатель спрашивал его открыто и громко. Но нередко переговоры велись вполголоса — я никогда как следует не мог понять, о чем. Едва только обнаруживалось, что покупатель из категории тех, кто изъясняется sotto voce [13] , как меня под благовидным предлогом отсылали на задний дворик. Поэтому я вправе лишь предположить, что мистер Хамберг позволял себе время от времени превысить свои профессиональные полномочия, давая советы и указания, на которые официально имели право лишь квалифицированные врачи. Не забывайте: многое из того, что у нас является открытым и прямым достоянием каждого, в те дни считалось чем-то запретным, окруженным мистикой и тайной, чем-то постыдным и нечистым…
Первым результатом моего пребывания в аптеке был жадный интерес к латыни. Здесь все внушало мысль о тем, что латынь — универсальный ключ к знаниям; более того, что ни одно изречение не таит в себе мудрости, пока оно не переведено на латынь. И я не устоял. За несколько медяков я приобрел себе у букиниста старую, потрепанную латинскую «Principia» [14] , составленную неким Смитом, моим однофамильцем, и засучив рукава ринулся в бой. И что же? Грозная латынь оказалась куда более податливым, логичным и бесхитростным языком, чем раздражающе-верткий французский или тяжеловесный, кашляющий немецкий, которые я тщетно пытался одолеть прежде. Латынь — язык мертвый: твердый грамматический костяк и четкое, простое произношение. Он никогда не движется, не ускользает от тебя, подобно живым языкам. Я быстро научился находить знакомые слова на наших ящичках, бутылях, надгробных надписях Вестминстерского аббатства, а вскоре начал разбирать даже целые фразы. Я рылся в ящиках дешевых букинистических лавочек, откапывая латинские книги: одни удавалось прочесть, другие — нет. Побывала в моих руках история войн первого из кесарей — Юлия Цезаря, авантюриста, который оборвал последний зловонный вздох разложившейся Римской республики. Достал я и латинский перевод Нового Завета и одолел обе эти книги довольно легко. Но вот латинские стихи поэта Лукреция оказались мне не по плечу; я так и не смог в них разобраться, хотя к каждой странице был приложен английский стихотворный перевод. Английский текст я, впрочем, прочел с захватывающим интересом. Удивительная вещь: стихи этого самого Лукреция, древнеримского поэта, который жил и умер за две тысячи лет до меня (и за четыре — до нас с вами), рассказывали о строении вселенной и происхождении человека куда более толково и вразумительно, чем те древние семитические легенды, которым меня учили в воскресной школе.
Одной из поразительных черт того времени было смешение идей, принадлежащих к разным эпохам и стадиям человеческого развития, — результат беспорядочной, небрежной системы нашего обучения. Школа и церковь упорно туманили людям разум мертвой схоластикой. В голове европейца двадцатого века обрывки теологии фараонов и космогонии сумерийских жрецов смешались с политическими воззрениями семнадцатого века и этическими понятиями спортивных площадок и боксерского ринга — и это в век аэропланов и телефонов!
И разве мой собственный пример не наглядное свидетельство пороков моей эпохи? Подумайте: в век нового, в век открытий сидит подросток и ломает себе голову над латынью, чтобы с ее помощью проложить себе путь к половинчатым знаниям древних! Вскоре я взялся и за греческий, но с ним дело подвигалось туго. Раз в неделю — в так называемый «короткий день» — я ухитрялся бегать после работы на вечерние курсы по химии. Я очень быстро обнаружил, что эта химия не имеет почти ничего общего с нашей аптечной алхимией. Эта химия, которая поведала мне о материи и ее силах, говорила со мною на языке другого, нового века. Захваченный чудом второго открытия своей вселенной, я забросил греческий язык и, роясь в пыльных книжных ящиках, выуживал оттуда уже не римских классиков, а современные научные книги. Я понял, что Лукреций почти так же безнадежно устарел, как книга Бытия. «Физиография» Грегори, «Сотворение мира» Клодда и «Ученые размышления в вольтеровском кресле» Ланкестера — вот книги, которые многому научили меня. Действительно ли это были такие уж ценные книги, я не знал: просто они, а не другие попались мне под руку и первыми разбудили дремавшую мысль. Теперь вы представляете себе, в каких условиях жили тогда люди? Чтобы узнать хотя бы то немногое, что было к тому времени известно о вселенной и человеке, мальчишка вынужден был добывать знания тайком, пугливо озираясь, точно голодный мышонок в поисках хлебной корочки. До сих пор не могу забыть, как я впервые читал о сходстве и различии между человеком и обезьяной и вытекающих отсюда предположениях о природе обезьяно-человека. Я сидел с книгой в сарайчике на заднем дворе. Мистер Хамберг прилег на диван в задней комнатке соснуть после полуденной трапезы, навострив одно ухо на случай, если позвонят в дверь. Что до меня, то я навострил оба (одно — на тот же самый случай, а другое — чтобы услышать, когда встанет хозяин) и читал — впервые в жизни читал о силах, создавших меня таким, каков я есть: читал, хотя мне полагалось в это время мыть бутыли…
12
названия лекарственных трав и медикаментов (лат.)
13
вполголоса (итал.)
14
«Начала» (лат.)