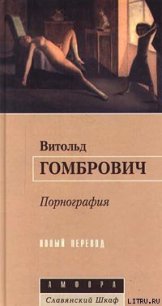Фердидурка - Гомбрович Витольд (читать полную версию книги TXT) 📗
Я, впрочем, не обманывал себя – мой успех за обедом был довольно-таки иллюзорным, он касался главным образом родителей, девушка ускользнула без особых потерь, она по-прежнему оставалась далекой и недоступной. Как на расстоянии осквернить ее современный стиль? Как бесповоротно втащить ее на орбиту моих действий? А ведь помимо дистанции психологической существовала и дистанция физическая – она виделась со мною лишь за обедом и за ужином. Как осквернять ее, как поддеть мысленно на расстоянии, то есть когда меня нет подле нее, когда она одна? «Пожалуй, – думал я убого, – путем подсматривания и подслушивания». Дорогу к выполнению этих функций они мне уже проторили, поскольку сами с первой же минуты нашего знакомства они посчитали меня подсматривателем и подслушивателем. «И кто знает, – думал я сонно, с надеждой, – не увижу ли я, приставивши глаз к замочной скважине, не увижу ли я чего-нибудь, что меня от нее оттолкнет, ибо многие красавицы в своей комнате ведут себя донельзя отвратительно». Но тут таилась и опасность, ибо некоторые гимназистки, околдованные собственным очарованием и послушные дисциплине стиля, в одиночестве ведут себя так же, как и на людях. И, следовательно, вместо безобразия я с тем же успехом мог увидеть красоту, а красота, увиденная в одиночестве, еще более смертоносна. Я не забыл, как, войдя неожиданно в комнату, увидел гимназистку с тряпкой у ноги, в позе достаточно стилизованной – да, но, с другой стороны, сам факт подсматривания уже до некоторой степени осквернял и поддевал, ведь, когда мы безобразно подглядываем за красотой, что-то от нашего взора, однако, прилипает к красоте.
Подобным вот образом я размышлял, вроде бы как в легком бреду, – наконец, неуклюже сполз с дивана и направился к замочной скважине. Однако же, прежде чем приложить глаз к дырке, я взглянул в окно – а день был чудный, свежий и осенний – и увидел, что по отмытой осенью улице крадется к черному ходу Ментус. Видно, направлялся к служанке. Над крышей соседнего особняка голуби взметнулись на ярком солнце и сбились в кучу, где-то послышался звук клаксона автомобиля, бонна на тротуаре играла с ребенком, стекла плавились на солнце, которое уже клонилось к закату. Перед домом стоял нищий, убогий попрошайка, здоровенный мужик, волосатый и бородатый церковный нищий. Бородач навел меня на одну мысль – вяло и едва передвигая ноги, вышел я на улицу, сорвал в сквере зеленую ветку.
– Дедушка, – сказал я, – вот вам пятьдесят грошей. Вечером получите еще злотый, но вы должны взять эту ветку в рот и не выпускать ее до ночи.
Бородач всадил себе ветку в пасть. Благословляя деньги, которые сплачивают союзников, я воротился домой. Приложил глаз к замочной скважине. Гимназистка возилась, как обычно возятся в своей комнате девушки. Что-то перекладывала в ящиках, вынула тетрадку – положила ее на стол, – лицо ее я видел в профиль, лицо типичной гимназистки над тетрадкой.
Без отдыха, убого подглядывал я от четырех до шести (тогда как нищий без устали держал во рту ветку), тщетно надеясь, что она выдаст себя каким-нибудь нервным отражением понесенного за обедом поражения, хотя бы прикусыванием губы или морщиньем лба. Но – ничего подобного. Будто ничего и не изменилось. Будто меня и не существовало. Будто так ничего и не смутило ее гимназичность. А эта гимназичность со временем становилась все холоднее, жестче, равнодушнее, неприступнее, и впору было усомниться, а возможна ли вообще порча гимназистки, которая в одиночестве вела себя точно так же, как и на людях. Впору было усомниться даже, а произошло ли что-нибудь за обедом. Около шести дверь неожиданно, коварно распахнулась – на пороге стояла инженерша.
– Работаешь? – спросила она с облегчением, окидывая дочь изучающим взглядом. – Работаешь?
– Немецкий делаю, – ответила гимназистка.
Мать вздохнула раз-другой.
– Работаешь – это хорошо. Работай. Работай.
Погладила ее по головке, успокоенная. Неужели и она ожидала упадка духа у дочери? Зута неприязненно отшатнулась. Мать хотела что-то сказать, открыла рот и закрыла – сдержалась. Подозрительно огляделась по сторонам.
– Работай! Работать! Работать! – нервно заговорила она. – Будь занята, интенсивна. Вечером улизни на дансинг – улизни на дансинг – улизни на дансинг. Вернись поздно, усни каменным сном…
– Не морочь мне голову, мама! – резко объявила дочь. – Времени нет!
Мать взглянула на нее, едва сдерживая восхищение. Резкость гимназистки ее совершенно успокоила. Она пришла к выводу, что дочь вовсе не расклеилась за обедом. А меня жестокая резкость гимназистки схватила за горло. Строгость ее была направлена непосредственно против нее самой, а нет для нас ничего хуже, когда мы видим, что возлюбленная наша неумолимо строга не только с нами, но также, когда нет нас подле нее, словно про запас, школит и самое себя. К тому же феноменальность девушки болезненно дала знать о себе в девичьей жестокости. Когда инженерша Млодзяк вышла, она склонила профиль над тетрадкой и независимо, враждебно и беспощадно принялась за уроки.
Я чувствовал, что, если и дальше позволю девушке быть феноменальной в одиночестве, если не установлю контакта между нею и моим подсматриванием, дело с минуты на минуту примет трагический оборот. Вместо того чтобы пакостить ее собою, я сам упивался, не я схватил ее за горло, но она схватила за горло меня. Стоя под дверью, я громко проглотил слюну, дабы она услышала, что я подсматриваю. Она вздрогнула и не повернула головы – и это было наилучшим доказательством, что она сразу услышала, – глубже втянула головку в плечи, сраженная. Но вмиг профиль ее перестал существовать сам для себя, вследствие чего он сразу же и мгновенно и явственно утерял всю свою феноменальность. Девушка с подсматриваемым профилем долго тяжко и молча сражалась со мною, а схватка состояла в том, что она и глазом не моргнула, продолжала водить пером по бумаге и вела себя так, будто она и не подсматриваемая.
А меж тем спустя несколько минут дырка в дверях, поглядывавшая на нее моим взглядом, стала ей докучать – чтобы продемонстрировать свою независимость и подтвердить равнодушие, она громко шмыгнула носом, шмыгнула вульгарно и безобразно, будто хотела сказать: «Смотри, мне ни до чего дела нет, я шмыгаю». Таким способом девушки выказывают глубочайшее свое презрение. Того я только и ждал. Когда, совершив тактическую ошибку, она шмыгнула, я тоже шмыгнул носом под дверью отчетливо, но не очень громко, так, словно не мог сдержаться, зараженный ее шмыганьем.
Она затаилась, как кролик, – этот носовой дуэт был для девушки неприемлем, – однако нос, уже мобилизованный, не оставлял ее в покое, после недолгой борьбы она вынуждена была вытащить носовой платочек и вытереть нос, потом она еще несколько раз, с большими перерывами, шмыгала носом, нервно, украдкой, а я неизменно вторил ей за дверью. Я поздравлял себя с тем, что мне так легко удалось вытянуть у нее нос, нос девушки был несравненно менее современный, чем ноги девушки, с ним было справиться легче. Подчеркивая ее нос и вытягивая нос из нее, я делал широкий шаг вперед. Суметь бы наградить барышню Млодзяк насморком на нервной почве, наградить насморком современность.
А она после стольких шмыганий не могла встать и заложить дырочки носа какой-нибудь тряпкой – это было бы равнозначно признанию, что она шмыгает нервно. Тихо, зашмыгаем жалко, безнадежно, упрячем подальше надежду! Я, однако, недооценил девичьей ловкости и сообразительности. Она вдруг широким движением, от уха до уха, вытерла нос рукой – всем предплечьем, – и это движение, смелое, спортивное, размашистое и забавное, изменило весь облик ситуации в ее пользу, придало шмыганию носом очарование. Она схватила меня за горло. В тот же миг – я едва успел отскочить от замочной скважины – вероломно и внезапно вошла в мою комнату инженерша Млодзяк.
– Чем вы тут, молодой человек, занимаетесь? – подозрительно спросила она, застав меня в неопределенной позиции посреди комнаты. – Зачем вы, молодой человек, здесь… стоите? Почему уроки не делаете? Вы что, молодой человек, разве никаким спортом не занимаетесь? Надо чем-нибудь заняться, – бросила она со страстью. Боялась за дочь. В моей неопределенности посреди комнаты она унюхала какую-то непонятную ей интригу против дочери. Я и жестом не попытался что-нибудь объяснить, а продолжал стоять посреди комнаты апатично и нелепо, словно остолбенев, инженерша Млодзяк в конце концов повернулась ко мне боком. Взгляд ее упал на нищего перед домом.