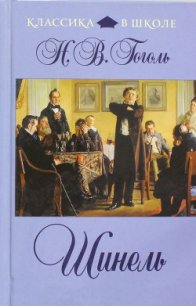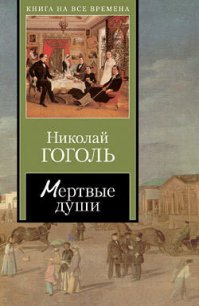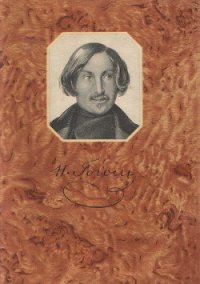Повести. Пьесы. Мертвые души - Гоголь Николай Васильевич (читать книги регистрация .txt) 📗
2
Не меньшую сложность представляют гоголевские произведения с точки зрения художественного целого. Обычно комическое изображение строилось на ощутимом разграничении художественного мира и мира окружающей жизни. «То, что вы видите, — словно говорил автор читателям, — это не вся жизнь, но только ее меньшая часть. Причем — худшая, достойная осмеяния и осуждения». Мир словно был поделен на две сферы — видимую, комическую, и находящуюся в тени, серьезную. Посланцами последней в художественном мире произведения выступали положительные герои — Стародумы, Правдины, Добролюбовы, Прямиковы и т. д.
У Гоголя такого разграничения словно и не бывало. Перед нами один мир, не делимый на комическое и серьезное, на видимое и существующее за пределами художественного кругозора.
Поэтому для Гоголя очень важны особые, обращенные к читателю информационные знаки, расшифровать которые можно примерно так: «Не думайте, пожалуйста, что это меньшая и притом худшая часть жизни, что вы находитесь в иной ее сфере (в иных ее «рядах», как сказал бы Гоголь). Не думайте, будто бы все, что вы видите, вас не касается».
Один из таких знаков — знаменитый эпиграф к «Ревизору»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Эпиграф к комедии выглядит непривычно, однако во времена Гоголя эпиграфы часто предпосылались драматическим вещам, поскольку последние рассматривались и в качестве произведений для чтения — так называемые Lesedramen. (В драме Белинского «Дмитрий Калинин» эпиграфом снабжено даже каждое действие.) И функция эпиграфа состояла в том, чтобы оттенить те или другие моменты содержания произведения. Но роль эпиграфа к «Ревизору» иная. Эпиграф — словно посредник между комедией и ее аудиторией, определяющий их взаимоотношения, не дающий зрителям (или читателям) замкнуться в самоуверенном убеждении, что все происходящее на сцене к ним не относится. Эпиграф безгранично расширяет художественный мир комедии в направлении мира действительного.
Такую же расширительную функцию выполняет реплика Городничего в конце последнего действия: «Чему смеетесь? над собою смеетесь!..» По традиции, она произносилась актером в зрительный зал, и с нею на безудержную стихию веселости и смеха словно сходила тень грустной задумчивости.
Еще один подобный знак — постоянное стремление включить в художественный мир реальные факты и имена из иных, более высоких «рядов» жизни. В Гоголе, вообще говоря, жил неугомонный дух мистификаторства и переиначивания. «…Около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, — вспоминает П. Анненков, — он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный приятель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюля Жанена, под которым и состоял до конца». Эффект переиначивания — в подчеркнутой дерзости и немотивированности. Русские переделывались во французов, неизвестные — в знаменитых, мужчины — в женщин. Налицо — веселая стихия карнавализации, с ее неукротимым стремлением все переосмыслить, перетасовать, поменять местами и обликом. Однако карнавализация отнюдь не механически переливается из общественной жизни и быта в художественный мир произведения. В последнем она приобретает свои функции — каждый раз конкретные и художественно мотивированные.
«Но зачем так долго заниматься Коробочкой? — спрашивает повествователь в третьей главе «Мертвых душ». — Коробочка ли, Манилов ли, хозяйственная ли жизнь или не хозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома… Но мимо, мимо! зачем говорить об этом?» На различных ступенях общественной лестницы, под разными обличьями и одеждами взор писателя обнаруживает подобное. Сопряжение высокого и низкого ведет не к пестроте и карнавальной разноголосице мира, но к его единству.
Аристократическая «сестра» Коробочки не названа по имени (хотя под ее характеристику, вероятно, подошли бы и реальные лица). Но вот — строки из «Старосветских помещиков», с весьма прозрачной исторической подоплекой, особенно для современников Гоголя, только что переживших восход и падение звезды Наполеона. «…По странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот — великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля… Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда».
Оставим рассуждения — это напоминает: мимо Коробочки или Манилова, не то «веселое мигом обратится в печальное». Обратится в печальное, ибо обнаружится, что нелепое сцепление фактов, приведшее к гибели «двух старичков прошедшего века», не так уж далеко от действия того механизма, который иной раз управляет событиями покрупнее и позначительнее.
Однако, пожалуй, самый действенный знак, стимулирующий расширение гоголевского художественного мира, — это выдержанность предмета изображения, однородность описываемых событий. Тут скрыт какой-то замечательный секрет, на который намекнул сам Гоголь. В одном из писем по поводу «Мертвых душ» оп говорил: «Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и при отдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на божий свет». Иными словами: секрет этот состоит в определенном превышении чувства меры. Меры привычной для нас, читателей, — добавим для точности.
Углубляясь в художественный мир гоголевского произведения, невольно ждешь, что вот-вот декорации переменятся. Современников Гоголя на этот лад настраивало не одно только психологически естественное подсознательное ожидание перемены к лучшему, но и прочная литературная традиция. Согласно последней, пошлое и порочное непременно оттенялось высоким и добродетельным. Между тем — действие гоголевской повести или пьесы продвигалось вперед, одно событие сменяло другое, а ожидание перемены не оправдывалось. Тут, кстати, снова видно, что эффект у Гоголя строился не столько на степени «злодейства» персонажа, в общем не такой уж высокой по сравнению с традицией («герои мои вовсе не злодеи»), сколько на накапливании однородного («пошлость всего вместе»).
Но по мере того, как возрастало количество пошлости, в читательской реакции обозначался неожиданный переход. Переход от веселого, легкого, беззаботного смеха — к грусти, печали, к тоске. Чисто психологически эта перемена достигалась неким целенаправленным избытком, тем, что, как говорил Гоголь в связи с Коробочкой, — веселое мигом обращается в печальное, «если только долго застоишься перед ним». Это как бы горизонтальное проявление того закона, который в сопряжении имен и фактов различных «рядов» действовал вертикально.
И этот закон, эту неизбежность сдвига в читательской реакции замечательно тонко зафиксировал Белинский. Зафиксировал как раз в связи с общим устройством гоголевского художественного мира — «секретом» этого устройства: «В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностию и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» — вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством… Что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнию. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..» [5].