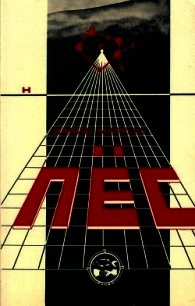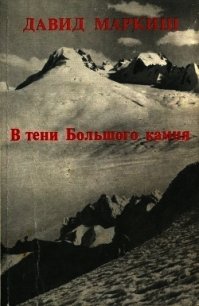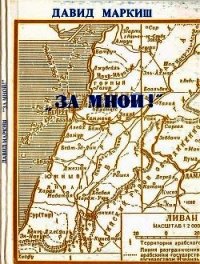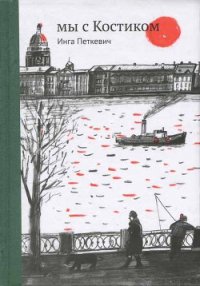Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (читать бесплатно полные книги .txt) 📗
Вадим написал им письмо с неделю назад, просил ответить по адресу Ксении. Теперь, заглядывая в почтовый ящик, он с удовольствием и тревогой ощущал, что вот появилась какая-то ниточка, какая-то натянутая серебряная струна, соединяющая его, Вадима Соловьева, с милыми ему людьми, затерявшимися, как и он, в Европе.
Он поднялся, наконец, на холм и с усмешкой превосходства обошел храм, мощные и глухие стены его тела. Ему нечего делать в храме, среди туристов и зевак: он помолился на нижней площадке, глядя на город и думая о себе. Думать и молиться — это одно и то же, потому что мысль, обращенная к себе, может быть ошибкой, но не может быть заведомой ложью. Обманув, украв, предав — нельзя думать о том, что все это другой человек сделал, не ты. А как только открываешь рот и начинаешь говорить слова, начинаешь и лукавить в большей или меньшей степени: не к себе говоришь — к другим, и они, может быть, тебя слушают.
Хором много вещей можно делать, но только не разговаривать с самим собой. А ведь разговор с самим собой — это и есть разговор с Богом… Поэтому мимо говорильни храма Вадим прошел с усмешкой.
Сразу за храмом, за короткой узкой улочкой, открылась Вадиму квадратная маленькая площадь, скорее площадка. Въезд машинам был сюда закрыт; три-четыре сотни людей праздно разгуливали между рядами картин, выставленных на мольбертах. Художники, не обращая внимания на толпящихся, не спеша мазали кисточками и переговаривались между собой. Картины были разные: плохие и средние. Десятка полтора художников, с рисовальными папками подмышками, сновали в толпе и предлагали желающим изготовить сиюминутный портрет… Вадим Соловьев почувствовал себя в своей тарелке, даже сердце его заходило живей, упруже: нищие, как видно, художники, золотые ребята.
Он поймал глазами портретистку-негритяночку с большой папкой, в парике из толстых черных веревок. Откуда она, как сюда попала? Вот бы поговорить с ней, посидеть… Девушка, обернувшись на пристальный взгляд, подошла, спросила что-то по-французски, потом по-английски. Вадим развел руками: не понимаю, и денег нет на картинку. Без интереса оглядев Вадима Соловьева, негритянка скользнула в толпу, навстречу плотной горсточке японцев, появившихся на площади. Веревки ее парика плоской челкой падали на лоб, вздрагивающие черные колбаски на коричневом фоне почему-то волновали Вадима. Он представил себе негритянку на месте Ксении и улыбнулся невесело.
Из дверей кафе, выходившего фасадом на площадь, пахло мясом и, может быть, супом, и Вадим постоял тут немного, подышал. Потом, сглатывая слюну, пошел толкаться по полюбившейся ему площади; ему хотелось еще раз поглядеть на негритяночку. Об Эйфелевой башне теперь и речи не могло быть: не хотелось никуда уходить отсюда, от услужливых, но гордых художников, от старого красноносого пьяницы, лежавшего на тротуаре около кафе и напевавшего что-то дурным голосом. По одну сторону от пьяницы стояла початая бутыль вина, а по другую чисто одетый и совершенно трезвый молодой человек в добролюбовских очках. В руках у молодого человека, поглядывавшего на распевающего пьяницу одобрительно, лаково желтела гитара. А пьяница, помахивая в такт своему пению грязной лапой, подмигивал и корчил рожи кучке зевак, глазевших на него со смущенными ухмылками. Было, действительно, что-то постыдное в кривлянии этого старика и в том, как он, широко разевая беззубый рот, пел… Трезвый молодой человек как бы в шутку, как бы нехотя стал подыгрывать старику на гитаре, старик, напротив, с большой охотой запел громче и решительней замахал лапой, и в картуз молодого человека, кстати оказавшийся на тротуаре, донцем книзу, посыпались мелкие монетки. Старик, размахивая пуще прежнего, теперь приглашающе указывал черным растрескавшимся пальцем на картуз.
Позванивая в кармане мелочью, Вадим Соловьев отошел. Он злился на трезвого молодого человека, выставившего на посмешище пьяного старика. Это даже как-то не вязалось и не клеилось: нищие художники, фокусник, грызущий в сторонке битое стекло — и этот чистюля в очках. Если б старик, правда, пел, а не кривлялся — это было бы дело другое: плохой старый певец, и все тут. Но петь, не имея к тому ни малейшей склонности, за деньги — этого Вадим Соловьев не принимал: зарабатывать на издевательстве над искусством нельзя, это грешно и отвратительно. Лучше бы этот очкарик привел на площадь какую-нибудь плешивую макаку, и она бы разевала пасть и махала руками на потеху дуракам. А тут дураки вместо обезьяны лупят глаза на старика, у которого человеческая душа дышит под ребрами. А что они, интересно, читают, дураки? Какие книги им нужны? Сборники дурацких анекдотов? Что-нибудь про футбол? Сначала поглазеют на третьесортных неудачников-художников, а потом идут слушать рев старика и спорить о том, честно или нечестно фокусник жует битое стекло. И это все. Печально, французы, печально.
Против воли задаваясь вопросом, настоящее ли это стекло у фокусника или липовое, Вадим отмечал с горечью, что число слушателей вокруг старика все увеличивается; японцы щелкали фотоаппаратами и стрекотали кинокамерами. Перейдя площадь, он сел на скамейку и стал глядеть на художников, которых ни старик, ни зеваки не занимали ничуть. Через несколько минут, желчно рассуждая об эрзац-искусстве и его потребителях, он забыл о старике.
Французы, эти потомки королевских мушкетеров и гвардейцев кардинала, раздражали его. Вот они упиваются грошовыми картинками, вот они слушают омерзительное кваканье старого пьяного жулика. Где же их хваленый вкус, где их благородство! Что здесь осталось от Франции великолепного Дюма, кроме самого Парижа? Париж населяют эти простофили, не отличающие крашеной жести от золота, по Москве бродят стаями какие-то серые мрачные хулиганы. Вена сыра и противна, как сырое яйцо. О Риме лучше и не вспоминать… Что случилось с миром? Где настоящие художники? Где рассказчики историй у костра? Чистый детский голос настоящего искусства не слышен за звериным ревом этого проклятого века.
Закрыть глаза, вообразить эту старинную площадь, полную другими людьми: обходительными усачами в плащах, при шпагах, и гризетками, или как их там называли, этих симпатичных белошвеек. Весна, едва оперившиеся зеленью деревца неухоженного сквера, прохладное в фаянсовой синеве неба солнце, которое так и хочется назвать — солнышко, и сама эта площадь, похожая на внутренний дворик хлебосольного старого дома — вот это и есть настоящий Париж, придуманный раз и навсегда в детстве, с зачитанной толстой книжкой в руках… Вадим Соловьев тихонько приоткрыл глаза и прицельно поглядел поверх голов на зеленоватые деревья, и на прохладное солнце, и на устье площади, открывающееся в голубой провал неба. Это был настоящий Париж, и Вадим вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, легкую тяжесть счастья в горле и сладкую влагу подступающих слез. Теперь должна была прийти музыка, звуки музыки, простенькой, как ситчик, и незаметной, как дыхание. Вадим прислушался с улыбкой, представив себе эту текущую в легком воздухе грустно-веселую мелодию — и даже досадливо поморщился, когда услышал ее вживе. Он огляделся и увидел, что прислушивается не он один, что люди оттекают от пьяного старика и от жующего фокусника и устремляются к устью площади, к проходу между двумя желтыми домами, между которыми — небо навылет. Музыка доносилась оттуда, и Вадим Соловьев пошел туда, вместе со всеми. Люди слушали, подходя и не видя еще источника музыки, лица людей, блудливо только что улыбавшиеся старику и его ужимкам, выражали теперь радостное внимание. Грустно-веселая мелодия шла как бы от неба, от поля. Люди подходили и слушали молча, и никто не решался сказать что-нибудь, неважно что.
В голубой тени стены шарманщик вращал ручку своего ящика.
Слушали люди, как слушают в концертном зале великого артиста, на выступление которого непросто достать билетик и накладно.
Шарманщик был лет тридцати пяти, с простым светлым лицом; с его плеч свешивалась синяя накидка мягкой толстой ткани.
Вот они, его слушатели: зеваки, нищие художники, город Париж.