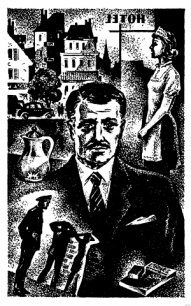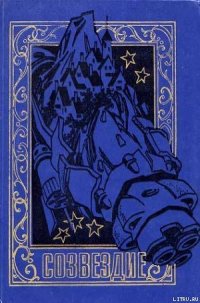Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей) - Вебер Виктор Анатольевич
— Врач уже месяц сюда шляется, и все без толку, — сказала Агата и с горячностью добавила. — Последний раз был три дня назад. Так вот, я думаю, мадам, бедная девочка больше нуждается в священнике, который изгонит из нее злого духа, чем во враче, который не лечит.
Мадам де Ферьоль посмотрела на старую Агату так, словно у той были не все дома.
— Да, мадам, — продолжила преданная служанка, не боявшаяся осуждающего взора мадам де Ферьоль, которая смотрела на нее, выпучив глаза, — в священнике, который разрушит дьявольские козни капуцина.
Глаза мадам де Ферьоль сверкнули мрачным светом.
— Как, Агата, — произнесла она, — вы осмеливаетесь думать…
— Да, мадам, — отважно ответила Агата, — я думаю, что здесь побывал сатана, и он оставил следы, какие оставляет везде, где проходит. Когда он не может погубить душу, он отыгрывается на плоти.
Мадам де Ферьоль не ответила. Она обхватила лицо руками и так сидела, опершись локтями о стол, с которого Агата сняла скатерть. Мадам де Ферьоль размышляла о том, что с таким глубоким убеждением утверждала старая служанка, чьи слова, подобно клинку, проникали в ее душу, такую же набожную и даже много более набожную, чем у Агаты.
— Оставьте меня на минуту, Агата, — сказала она, подняв озадаченное лицо и снова прикрыв его руками.
Агата вышла из комнаты пятясь, чтобы дольше можно было наблюдать, в какое состояние привела ее речь хозяйку, которая сидела словно пораженная молнией.
— Ах, Святая Агата, — прошептала она, выходя, — пришлось выложить все начистоту, раз она сама в упор ничего не видит.
Мадам де Ферьоль вовсе не была суеверная — по понятиям толпы, ничего не смыслящей в сверхъестественном, — не была она мистически настроена и в христианском смысле слова, но веровала она глубоко. Сказанное Агатой должно было произвести на нее впечатление. Ей не пристало отрицать физическое вмешательство и видимое влияние того, кого святое писание называет духом лукавым. Она свято в это верила. Несмотря на свою рассудочность верила она в Сатану спокойно, в строгом соответствии с христианскими догматами и насколько позволяла церковь, мать всякого благоразумия и противница всякого легкомыслия. Мысль Агаты поразила ее, но с меньшей силой чем поразила бы более созерцательную, более экзальтированную натуру. И в то же время в этой мысли было для нее откровение, какого не было для Агаты. Благодаря своей женской интуиции мадам де Ферьоль, которая любила, которая уже пятнадцать лет пыталась успокоить свои чувства, угаснуть, но продолжала гореть и куриться неодолимой страстью к мужу, понимала то, что Агате, всю жизнь прожившей в сердечном целомудрии и безмолвии чувств, мешала понять ее душевная чистота.
Как и простодушная Агата, мадам де Ферьоль верила, что Сатана способен принимать ужасные обличья, но на собственном опыте она знала то, чего не знала Агата: страшнее всего, когда он принимает обличье любви. Молнией пронеслось в мозгу мадам де Ферьоль: „Что, если она любила его, что, если именно любовь — причина ее болезни?“ Она сидела, обхватив лицо руками, подавленная, но ее внутренний взор — тот, которым мы заглядываем в сумрак своих душ, — был направлен на эту внезапную мысль: „Могла ли Ластения полюбить?“ В жалком городишке, где живут лишь мелкие буржуа, где нет приличного общества, нет благовоспитанных молодых людей, где они с дочерью жили, как в Феваиде, в недрах пустынного особняка, возникает вдруг в сумраке души образ загадочного капуцина, который промелькнул в их жизни и исчез, как видение, образ тем более волнительный для женского воображения, что они так и не смогли разгадать его тайну.
Разве ужас — или то подобие ужаса, — который Ластения всегда выказывала при виде этого грозного сфинкса в рясе, сорок дней жившего рядом и оставшегося тем не менее для них загадкой, не свидетельствовал о том, что Ластения отнюдь не воспылала к нему любовью? Нет, наоборот, это как раз и подтверждало ее страстную любовь. Женщина в таких вещах разбирается. Даже если женский инстинкт не подсказал бы мадам де Ферьоль, подсказала бы ее собственная страсть. Сколь часто началом любви служит страх или ненависть, а ужас как раз и есть сочетание страха и ненависти, доведенных во взбунтовавшихся робких душах до неистовой силы. „Вы действуете на нее как паук“, — сказала как-то одна мать человеку, любившему ее дочь, а через два месяца после таких резких оскорбительных слов она уже воочию видела, с какой тайной болезненной жаждой счастья дочь извивается в мохнатых лапах паука, позволяя до последней девственной капли высасывать кровь из своего сердца.
Ластения трепетала перед таинственным капуцином, от которого веяло холодом. Но если мужчина не вызвал у женщины трепет, она его никогда не полюбит. Гордая мадам де Ферьоль должна была тоже трепетать перед неотразимым офицером в белой форме, который похитил ее, как Борей — Оритию. Мадам де Ферьоль стоило лишь вызвать в памяти былые годы, чтобы начать страшиться за дочь. „Если Ластения и понимает, что с ней, — подумала мадам де Ферьоль, — она не говорит, таится. Зло проникло глубоко“. Она вспомнила, как сама скрывала свою любовь. Пугливость и целомудрие так легко превращают любовь в ложь, в самую постыдную в своем сладострастии ложь. С какой безумной радостью напяливают маску вранья на горящее страстью лицо, но она сжигает маску, скоро обращает ее в пепел, и тогда уже страсть нельзя скрыть ничем.
Когда мадам де Ферьоль подняла голову, черты ее лица были спокойны, — она приняла решение: ей надо во что бы то ни стало узнать, что с дочерью. Врач теперь был ни к чему. „Я сама, — сказала себе мадам де Ферьоль, — должна во всем убедиться“. Она еще раз попрекнула себя грехом всей своей жизни, — тем, что она всегда была больше женой, чем матерью. Бог продолжал наказывать ее за это и поступал правильно. Так ей и надо. Когда Ластения, еле волоча ноги, вновь спустилась вниз и уселась у окна, где они работали, она бы, может, ужаснулась, если бы обратила внимание на выражение глаз мадам де Ферьоль, но на мать Ластения не посмотрела. Даже не пыталась. Она никогда не видела в этих глазах ласку, — а ведь Ластения по справедливости вызывала у всех нежность, — а от недобрых чувств она хотела себя оградить.
— Как ты себя чувствуешь? — после некоторого молчания спросила мадам де Ферьоль, откладывая белье в сторону.
— Лучше, — ответила Ластения, не поднимая головы и продолжая шить, но из ее опущенных глаз прямо на руки, на белье в ее руках упали отвесно две крупные слезинки. С иглой в поднятой руке мадам де Ферьоль наблюдала за падением этих, а затем и двух других слезинок, крупнее и тяжелее.
— Почему же тогда ты плачешь, а ведь ты плачешь? — спросила мать таким тоном, словно в чем-то упрекала или обвиняла дочь.
Смутившись, Ластения вытерла глаза тыльной стороной ладони. Ее лицо было бледнее пепла ее волос.
— Не знаю, мама, — ответила она, — это как-то само собой.
— И я думаю, что само собой, — отчеканивая слова, произнесла мадам де Ферьоль. — А то с чего бы тебе плакать? С чего горевать? Быть несчастной?
Она замолкла. Ее черные глаза, блестя, глядели в светлые глаза дочери, еще влажные от слез, казалось, высушивая их своим жаром.
Слезы высохли, и две иглы в тишине заработали вновь. Сцена была короткая, но чувствовалось, что надвигается гроза. Обе они заглянули в разделявшую их пропасть взаимного недоверия. Больше в этот день мать с дочерью не обмолвились ни словом. Жестокая тишина продолжала нагнетаться.
Эта тишина словно застывала между ними. А что может быть более печальным, более зловещим, чем когда живущие рядом не разговаривают друг с другом. Несмотря на всю ее решимость, боязнь удостовериться в своей правоте удерживала мадам де Ферьоль, и прошло еще несколько безмолвных дней. Наконец, в одну из бессонных ночей, размышляя о молчании, унижавшем их обеих, о гнетущем беспокойстве, порождавшем страх, мадам де Ферьоль устыдилась своей слабости. „Ластения пусть трусит, это ее дело, а я трусить не буду“, — и мадам де Ферьоль вскочила с кровати и схватила со стола лампу, которую она всегда держала зажженной, чтобы, когда не спится, видеть у себя в алькове распятие и, глядя на него, молиться с большим усердием. Но в этот раз она не созерцала распятие с молитвой на устах, она сорвала его со стены и в отчаянии понесла с собой, надеясь на его помощь в беде, готовой на нее обрушиться, — ведь навстречу ей и шла мадам де Ферьоль. Надо было сию минуту покончить со снедавшим ее мучительным беспокойством. Она вошла к дочери с лампой в одной руке, с распятием в другой, в белом ночном одеянии, словно страшный призрак. К счастью, никто не мог ее видеть, никого она не испугала, хотя сама была настоящим воплощением ужаса. Что ей теперь делать? Ластения спала, едва дыша, без сновидений, тем безжизненным сном, похожим на смерть, в который по ночам проваливаются люди, днем много страдавшие. Мадам де Ферьоль подняла дрожавшую в ее руке лампу и осветила лицо дочери; потом поводила лампой вокруг спящей Ластении, как бы пытаясь, воспользовавшись ее беззащитностью, проникнуть в тайну ее недуга.