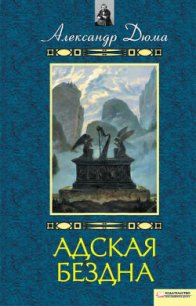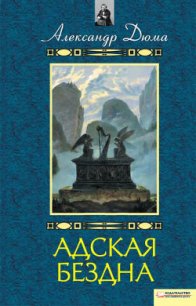Адская бездна. Бог располагает - Дюма Александр (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений .txt) 📗
Крики восторга и торжества, приветствовавшие кортеж с минуты его выхода из Пале-Рояля, с каждым шагом становились все слабее.
Начиная от Нового моста, поведение толпы изменилось: здесь люди глядели сурово, едва ли не угрожающе.
– Снова Бурбон! – выкрикнул рабочий, стоявший рядом с Жаком. – Чего ради мы сражались? Не стоило труда.
– Успокойся, сынок, – отвечал ему Жак. – Еще не все кончено.
Кортеж внезапно вышел из узкой улицы на площадь. Герцог Орлеанский с подчеркнутой любезностью обернулся к г-ну Лаффиту, как будто старался укрыться под сенью популярности, более надежной, нежели его собственная.
Жак сунул руку в карман, вытащил пистолет и прицелился.
Но чья-то рука сзади перехватила его руку и вырвала у него пистолет.
Он обернулся. Это был тот самый рабочий, с которым он только что разговаривал.
– Что ты делаешь? – сказал мастеровой.
– А тебе-то что? – отвечал Жак. – Мне не по вкусу Бурбон.
– Плевал я на Бурбонов! – заявил рабочий. – Но ты выбери другой случай, а то еще убьешь Лаффита.
Оттолкнув мастерового, Жак поднял свой упавший на землю пистолет. Однако кортеж уже прошел мимо, и герцог Орлеанский вступил в ратушу.
Жак попытался было проникнуть туда. Но часовые преградили ему путь.
Когда герцог Орлеанский вошел в большую залу, его там встретила огромная толпа. То были вчерашние бойцы, учащиеся Политехнической школы, со шпагами наголо, с суровыми и скорбными лицами. Генерал Дюбур тоже стоял там.
Один из депутатов огласил декларацию Палаты. Раздались весьма жидкие аплодисменты.
Генерал Дюбур выступил навстречу Луи Филиппу и, простирая руку к площади, еще запруженной вооруженным народом, заявил:
– Вам известны наши права; если вы о них забудете, мы напомним.
– Сударь, – отвечал герцог, несколько смутившись, – я честный человек.
– Честный человек не всходит на ступени трона, – сказал Самуил.
И он, вскинув пистолет, прицелился и выстрелил.
Осечка.
Самуил взглянул на свой пистолет. В нем больше не было пистона.
У него был припасен второй пистолет. Он хотел достать его из кармана. Но карман был пуст.
– Предательство! – закричал он.
В толпе была такая давка, что он не почувствовал, когда чужая рука залезла к нему в карман.
И тут Лафайет взял трехцветное знамя, вложил его древко в руку Луи Филиппа и сказал ему:
– Пойдемте!
Потом он повлек герцога на балкон ратуши и на глазах народа, теснившегося на площади, обнял его.
Это и была подлинная коронация Луи Филиппа. Лафайет освятил его персону, поделившись с ним своей популярностью.
Толпа разразилась приветственными криками.
«Кончено, – сказал себе Самуил. – Через неделю он станет королем. Все мечты моей жизни рухнули в один миг. Что ж, надобно смириться. Ничего уже нельзя сделать».
Но вдруг он вскинул голову.
«Да нет, – подумалось ему. – Здесь все завершилось, но еще можно начать заново. Разве я ребенок или женщина, чтобы вешать нос при первой же трудности? Нет, ничего не потеряно. Есть способ все поправить. Ну-ка, подумай немного».
И он, прикрыв глаза ладонью, погрузился в глубокую задумчивость. После нескольких минут неподвижности и упорного размышления он усмехнулся, и в глазах его сверкнула молния.
«Нашел! – возликовал он. – Ах, все же я не из тех, кто легко сдается».
За пять минут в его голове сложился последний план, призванный решить его судьбу.
Он отправился к Юлиусу.
LIX
Перемена диспозиции
И на этот раз при виде Самуила во взгляде Юлиуса блеснуло и тотчас угасло нечто похожее на свет надежды, которую он словно бы хотел скрыть.
– Ну вот, мой дорогой Самуил, – сказал он как-то веселее обычного, – я вижу, что твои триумфы не заставляют тебя позабыть старых друзей.
– Что еще за триумфы? – буркнул Самуил.
– Как? Разве вы не разбили противника по всему фронту? Я только что читал газеты, и лишь для того, чтобы узнать, как там ты и твои революционеры. И убедился, что вы быстро продвигаетесь вперед. Раз герцог Орлеанский главный наместник, значит, Карл Десятый низложен.
– Да, главный наместник… королевства! – отвечал Самуил, язвительно подчеркнув последнее слово. – Народ поменял одного господина на другого, и это они называют революцией; притом никто не мог бы сказать, стоит ли новый господин больше, чем прежний, не надо ли и его в свою очередь выгнать. Таким образом, я просто болван, рисковавший своей шкурой, чтобы посадить одного короля на место другого. Но я еще посчитаюсь с этой желторотой оппозицией, которая украла у нас нашу победу, подоспев после сражения, чтобы обобрать мертвецов!
– Что ты хочешь сказать? – спросил Юлиус.
– У испанцев есть одна пословица, она гласит: «Всегда делай ставку на худшее»; а надо бы говорить: «на мелкое». Успех всего вернее обеспечен ничтожествам, посредственности, которая мельче самого ничтожества. Ты не откажешься воздать мне должное, признав, что я никогда не строил особых иллюзий в отношении рода людского; так вот, сколь бы ограниченным ни было уважение, которое я к нему питал, оно все же оказалось преувеличенным раз в сто.
Самуил помолчал и заговорил вновь, словно стараясь оглушить самого себя своими короткими, отрывистыми фразами:
– Да, да, день народной победы, возможно, настанет. Но не сейчас. Признаюсь: я слишком поторопился. Я человек грядущего столетия. Народы не созрели для свободы. Нужны, быть может, столетия, чтобы они ее оценили. Отсюда следует, что одна лишь власть может обеспечить нам мир. Итак, раз нельзя сейчас уснуть, а через сто лет пробудиться, я решил приспособиться к эпохе, в которую живу. И если я потребуюсь властям, я… так вот, Юлиус: я перехожу на их сторону.
– А-а, – протянул Юлиус, рассматривавший Самуила со странным видом, пряча за бесстрастной маской своего лица глубокое тайное волнение.
– То, что я тебе сейчас сказал, можно рассматривать как предложение, – продолжал Самуил. – Когда позавчера я пришел к тебе и спросил, не хочешь ли ты пойти со мной на баррикады, ты мне ответил, что если бы ты там оказался, то был бы не со мной, а с противоположной стороны, и что ты останешься верен правительству, которому служишь. Что ж! Хочешь доказать ему свою преданность?
– Это каким же образом?
– Вот послушай. Эти трехдневные волнения, хоть и привели здесь не более чем к половинчатой революции, все же могут вызвать взрыв сочувствия в Германии и иметь для нее серьезные последствия. Могу тебе сообщить, что Тугендбунд не умер: он будет возбуждать умы юношества и простонародья. Все может вспыхнуть с минуты на минуту. Короли восторжествуют там, как и здесь, и я им этого желаю, но дело не обойдется без гражданской войны и большого кровопролития. А монархия, видишь ли, уже и так достаточно запятнала себя всякой грязью, ей не хватает только кровавых пятен на руках.
Так вот, если некто обеспечит правительству Германии средство предупредить такое бедствие, королей убережет в будущем от ужасной расплаты за недолговечную победу над защитниками свободы, а Тугендбунд удержит от сражения, которое в наши дни не может закончиться ничем, кроме как кровавым разгромом, – короче, как по-твоему: тот, кто избавит отечество от мучительного потрясения всех основ, вправе требовать от властей всего, что он захочет, и власти ни в чем ему не откажут?
– Это бесспорно, – обронил Юлиус.
– Что ж, Юлиус, – продолжал Самуил, – ты можешь стать таким человеком.
– Я?
– Именно ты.
– Да ты с ума сошел! – сказал Юлиус. – Посмотри на меня. Чего, по-твоему, я могу требовать от властей, что получить? Разве у меня есть время на то, чтобы быть честолюбивым?
– У человека всегда есть время быть честолюбивым в отношении того, что он оставит после себя, – память, овеянную славой.
– Объяснись.
– Нет ничего проще. Еще и года не прошло с тех пор, как ты представлял здесь, в Париже, особу короля Пруссии. Ты сохранил воспоминания о милостях, которые он тебе расточал, и поныне привязан к нему узами признательности и долга. Лучше и не придумаешь. У меня нет подобных доводов оставаться в рядах своих соратников. Никто там не сделал для меня ровным счетом ничего, я свободен. Я оставляю за собой право отречься от этих неблагодарных и, что еще хуже, безмозглых глупцов, которые сами отрекаются от себя.