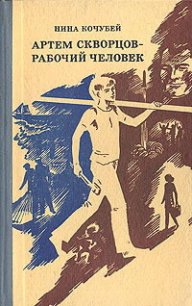Чапаев - Фурманов Дмитрий Андреевич (лучшие книги .TXT) 📗
Он терялся в догадках, в предположениях.
В это время рысью подъехал всадник. Этот, видимо, тоже «искал пулеметы». Он молол что-то вздорное и бессвязное. Федор посмотрел ему в лицо и понял, что оба они больны одною болезнью.
— Наши-то где? — спросил небрежно тот, подъезжая вплотную.
— А вот сам ищу, — брезгливо ответил Федор и застыдился. Они друг друга поняли до самого позорного днища.
— Может, в станице уж они? — деланно зевая и с притворной безмятежностью спросил незнакомец.
— Может быть, — согласился Федор.
— Ну, так што же, едем, што ли?
— Куда?
— В станицу-то.
— А как там казаки?
— Едва ли… Верно, вошли… А впрочем…
— То и дело-то: попадешь в лапы — не помилуют!
В этом роде предлагали друг другу несколько раз, столько же раз один другого отговаривали, предостерегали, указывали на необходимость как-нибудь исподволь узнать, осторожно: кто занимает теперь станицу.
За разговором все плыли и плыли вперед, не заметили, что были всего в полуверсте, что с мельниц их давно и отлично видать, что деться все равно никуда нельзя и даже в случае преследования едва ли имеется смысл удирать: пулеметы с мельниц достанут вослед!
Так ехали и дрожали от неизвестности, дрожали и ехали дальше.
Совсем неподалеку от крайних халуп увидели мальчугана годов десяти.
— Малец, эй, малец, вошла тут Красная Армия али нет?
— Вошла, — прозвенел мальчишка весело. — А вы откуда приехали?
— Беги, беги, мальчуган, гуляй! Про военные дела рассказывать нельзя, — урезонил отечески Федор его баловливое и неуместное любопытство.
Спутник, лишь только услышал, что опасности нет, — куда-то нечаянно и вмиг пропал. Клычков, спокойный, но все такой же приниженный и смущенный, въезжал теперь в станицу, занятую красными полками. Он все успокаивал себя мыслью, что со всеми новичками, верно, то же бывает в первом бою, что он себя оправдает п о т о м , что во втором, в третьем бою он будет уж не тот…
И не ошибся Федор: через год за одну из славнейших операций он награжден был орденом Красного Знамени. Первый бой для него был суровым, значительным уроком. Того, что случилось под Сломихинской, никогда больше не случалось с ним за годы гражданской войны. А бывали ведь положенья во много раз посложнее и потруднее сломихинского боя… Он выработал в себе то, что хотел: смелость, внешнее спокойствие, самообладание, способность схватывать обстановку и быстро разбираться в ней. Но это пришло не сразу, — надо было сначала пройти, видимо, для всех неизбежный путь: от очевидной растерянности и трусости до того состояния, которое отмечают как достойное.
Расспрашивая встречных, где остановился штаб, Клычков отметил, что все отвечали как-то наспех, словно нехотя, куда-то торопясь, — вся станица была в движении, до чрезвычайности была оживлена и возбуждена. Казаков выбили, угнали, и теперь еще продолжали их где-то гнать те части, которым поручено было преследование. Значит, причины возбужденья не в этом — не в военной опасности, не в боевых приготовлениях. Но в чем же?
Он подъехал незаметно к штабу — к огромному дому купца Карпова. Здесь в сборе были все: Чапаев, его ребята, Ежиков. Особенно запомнился Федору Ежиков. Он, видимо, понял, в чем дело, и встретил гуляку чуть сдержанной улыбкой:
— Тылы подтягивали… товарищ… Клычков? — А глаза золотистые и смеются-смеются у дьявола — насмехаются.
— Да… Подзадержался там… — неловко пробурчал Федор и обратился к Чапаеву: — Армию известили?
— Сейчас вот собираемся… Из Уральска вести добрые — там двинули вперед, дорогу ко Лбищенску чистят…
— То-то бы дело… А нам тут как, относительно Сахарной-то?
Спросил и смутился: слова показались излишней болтовней, как и сам себе казался он здесь почти что лишним…
«Они все тут шли, сражались, жизнью рисковали, а я, извольте-ка — через два часа пожаловал!»
Угрызения совести шерстили сердце, полымянной мукой кидались в лицо.
Одна за другой подходили к дому женщины-крестьянки. Настойчиво жестикулируя, они доказывали что-то вестовым и караульным, тщетно пытаясь проникнуть в штаб. В окно было видно, что их не пустят, — невозмутимый, усмешливый вид красноармейцев был тому порукой. Федор вышел на волю, расспросил, в чем дело, узнал, что они жаловались на новых своих гостей — красноармейцев, которые-де растаскивают имущество. Федор немедленно отправился с ними на место, расспросил, осмотрел, записал, обещал разыскать и воротить пропавшее.
Грабежи были — этого никак нельзя отрицать. Грабежи во время вступления войск в населенные пункты, видимо, явление неизбежное, и это Федор многократно впоследствии имел возможность наблюдать как на своих, на красноармейских, частях, так и на войсках врага. Это — нечто стихийное, с чем трудно бороться, что в корне уничтожить немыслимо, пока существует война. Это свойственно бойцу наших дней по природе всей его взвинченной, специфически военной, разрушительной психологии. Военные грабежи пропадут только с войной. Это так. Однако же это вовсе не значит, будто с ними нельзя бороться уже теперь и бороться даже очень, очень успешно!
Федор наткнулся на целый ряд грабежей, вовсе бессмысленных, не имевших в себе нисколько корыстного начала. Идет, к примеру, красноармеец, тащит огромный узел со всяким барахлом.
— Что у тебя? Покажи.
Он совершенно спокойно раскладывается с узлом на снегу, развязывает, вытаскивает оттуда детские рубашечки, пеленки, игрушки, разные тряпки, платьица…
— На что это тебе, дружина?
Молчит. Сам видит, что ни к чему.
— Зачем брал-то, спрашиваю?
— А мы все кому што: взял и понес.
— Зачем же все-таки?
— Почем я знаю…
— А у меня женщина была, плакала, искала. Надо быть, это самое бельишко и есть…
— Может, оно… Пущай берет, — согласился парень без жалости.
— Не «берет», а отнести надо, — внушительно, дружески, беззлобно сказал ему Клычков.
— И отнести можно, — согласился тот. — Конешно, отнести, — чего ей, бабе, барахтаться? Ты укажи, я сам снесу.
Федор узнал, где тот хватил узел, и направился вместе с ним. Красноармеец принес, молча положил его на железную ощипанную кровать, помялся неловко на месте, взялся за скобу и вышел молча.
Федор встретил другого. Этот голову всунул в плетеную детскую колясочку — может, в печку тащил, а может, и просто позабавиться. Бывало и это, по-разному забавлялись.
Сгребут, бывало, здоровеннейшие лапищи какого-нибудь вихрастого Михрютку, у которого сапожищи потяжеле да грязи на них в аршин, у которого в ляжках три пуда да полпуда в льняных кудрях, — сгребут и волокут его к такой вот что ни на есть ангельской колясочке. Визжит-брыкается Михрютка, страстным воем пугает мимо идущую публику. В станице ли, в деревне али в городе — игра везде одинаковая. Как ни визжи, а забава состоится: в подмогу со всех сторон сбегаются ребята, помогут они вязать, держать, скрутить парня начисто в детскую колясочку. Свяжут его, прикрутят честь честью и руки веревкой заплетут, а потом выбирают, где горка покруче да с горки его… на колесиках… кувырком!
Ха-ха-ха! То-то забава молодецкая!
И тут результат был один: колясочку парень Клычкову возвратил без малейшего сожаления, она ему была совершенно не нужна и соблазнила только своим разукрашенным видом.
Многое разыскали, многое возвратили, станица поутихла, перестала жаловаться. Чапаев приказал немедленно созвать командиров, а когда собрались, — жестким тоном распорядился он произвести массовые обыски и арестовать всех, у кого хоть что найдется из украденного. Что будет отобрано — все сносить в определенные места, назначить особую раздаточную комиссию, пригласить пострадавших и удовлетворить, но… только бедноту: ни одному «буржую» чтобы не было отдано ломаного гроша. Это имущество пойдет в полковые кассы, которые создать надо теперь же, немедленно! Тех, что сами снесут вещи, — не трогать, не арестовывать… Кроме этого всего, собрать через два часа на площади всех бойцов, сообщить, что будет говорить «сам Чапаев» — так и наказал передать: «Сам Чапаев говорить, мол, будет!»