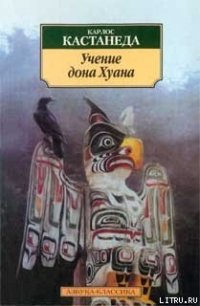Особая реальность (перевод Останина и Пахомова) - Кастанеда Карлос (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
– Это по-твоему, – сказал дон Хуан. – Ты о жизни думаешь, но не видишь .
– А если бы видел , то воспринимал бы все иначе?
– Научившись видеть , человек обнаруживает, что он в мире – один, и у него ничего, кроме глупости, нет.
Дон Хуан замолчал и взглянул на меня так, словно хотел узнать, какое впечатление произвели его слова.
– Твои поступки, как и поступки твоих ближних, представляются тебе важными потому, что ты научил-ся думать, будто они важны.
Он произнес слово «научился» с такой интонацией, что мне снова пришлось просить разъяснений.
Дон Хуан оторвался от растений и посмотрел на меня.
– Сначала мы учимся обо всем думать, – сказал он, – а потом приучаемся смотреть на вещи так, как мы о них думаем. Мы думаем о своей значительности – ив результате начинаем ощущать ее. Но если человек научился видеть , ему не надо учиться думать о вещах, он воспринимает их непосредственно. А раз он о них не думает, они утрачивают для него свою важность.
Заметив мой удивленный взгляд, дон Хуан трижды повторил свои слова, чтобы их смысл лучше дошел До меня. Сказанное показалось мне чепухой, но после некоторого размышления представилось изощренным высказыванием об определенном аспекте восприятия. Я попытался подыскать вопрос, который заставил бы Дона Хуана выразиться понятнее, но так ничего и не придумал. Я выдохся и не мог сформулировать свои мысли четко.
Дон Хуан заметил это и потрепал меня по плечу.
– Выбери-ка сор из травы, – сказал он, – нарежь ее и собери вот в эту банку.
Дон Хуан вручил мне большую банку из-под кофе и ушел.
Вернулся он к вечеру. Я давно управился с травой и занимался своими записями. Увидав его, я тут же захотел задать несколько вопросов, но дон Хуан не был расположен к беседе. Он сказал, что очень голоден и должен сначала поесть. Он развел огонь в глинобитной печке и поставил на нее горшок с бульоном из костей. Заглянул в привезенные мной пакеты с продуктами, достал овощи, мелко нарезал и бросил в горшок. Потом улегся на циновку, скинул сандалии и велел мне сесть ближе к печке, чтобы поддерживать огонь.
Смеркалось. Оттуда, где я сидел, была хорошо видна западная часть неба. Края массивной гряды облаков отсвечивали ярко-желтым, середина же была черной.
Я открыл рот, чтобы похвалить красоту облаков, но дон Хуан опередил меня.
– Снаружи – пух, внутри – камень, – сказал он, указывая на них.
Его слова были настолько к месту, что я подпрыгнул.
– Я как раз собирался сказать про облака.
– Значит, я тебя обскакал, – засмеялся дон Хуан с детской непосредственностью.
Я спросил, в настроении ли он отвечать на мои вопросы.
– А что тебя интересует?
– Твои слова об управляемой глупости лишили меня покоя. Я так и не могу понять, что ты имел в виду.
– Неудивительно, – согласился он. – Ты думаешь об этом, и мои слова не соответствуют твоим мыслям.
– Конечно, думаю, – сказал я. – А как еще можно что-либо понять? Что, например, значат твои слова: если человек научился видеть , все для него становится никчемным.
– Я не говорил – никчемным, я сказал – неважным. Все уравнивается, одно оказывается не важнее другого. Я не могу, например, сказать, что мои действия важнее твоих или что одна вещь необходимее другой. Все они равны, а значит, и ничего нет важного.
Я спросил, следует ли понимать его слова так: то, что он называет «видеть»,– намного лучше, чем просто «смотреть».
Дон Хуан ответил: наши глаза способны и на то, и на другое, и одно не лучше другого. Но, по его мнению, приучать глаза только смотреть – значит обкрадывать себя.
– Например, чтобы смеяться, надо смотреть, – сказал он, – потому что, только когда мы смотрим, мы способны воспринимать смешные стороны вещей. Когда же видим , все становится равнозначным и потому – не смешным.
– Значит, тот, кто видит , вообще не смеется? Старик помолчал.
– Быть может, и есть люди знания, которые никогда не смеются, – сказал он, – но я таких не знаю. Те, кого я знаю, могут и видеть , и смотреть, и поэтому способны смеяться.
– А может человек знания плакать?
– Почему бы и нет? Раз наши глаза смотрят, значит, мы можем смеяться, плакать, веселиться, грустить, быть счастливыми. Сам я грустить не люблю, и если встречаю что-то, способное меня опечалить, то просто меняю зрение: не смотрю, а вижу . Но если сталкиваюсь с чем-то смешным, тогда смотрю – и смеюсь.
– В таком случае ты смеешься искренне, и, значит, твой смех – не есть управляемая глупость.
Дон Хуан пристально посмотрел на меня.
– Я разговариваю с тобой, потому что ты смешишь меня, – сказал он. – Ты напоминаешь мне степных крыс. Они имеют манеру засовывать хвост в нору, стараясь спугнуть оттуда других крыс и стянуть их еду, – тут-то и попадаются! Ты же попадаешься, задавая свои вопросы. Берегись! Этим крысам >прихо-дится иногда отгрызать себе хвост, чтобы вырваться на свободу.
Сравнение показалось мне забавным, и я рассмеялся. Когда-то дон Хуан показывал мне этих грызунов с пушистыми хвостами, похожих на белок. Зрелище мордастой крысы, лихорадочно отгрызающей себе хвост, было одновременно и мрачным, и смешным.
– Мой смех, как и все, что я делаю, – настоящий, – сказал дон Хуан. – Но он тоже – управляемая глупость, потому что бесполезен. Смех ничего не меняет, тем не менее я смеюсь.
– Дон Хуан, но ведь твой смех не без пользы, тебе от него хорошо.
– Отнюдь. Мне хорошо потому, что я предпочитаю смотреть на вещи, которые доставляют мне удовольствие. Тогда я вижу их смешные стороны и смеюсь. Я не раз говорил тебе: чтобы достичь совершенства, человек должен выбрать путь, у которого есть сердце, и тогда он сможет часто смеяться.
Я понял это так, что плач хуже смеха; во всяком случае, он ослабляет нас. Дон Хуан ответил, что меж* ду тем и другим нет существенной разницы: плач и смех – равны. Но он предпочитает смех: посмеяв* шись, он чувствует себя лучше.
Я возразил: если существует предпочтение, равенства быть не может. Если он предпочитает смеяться, а не плакать, значит, смех важнее, чем слезы.
Но дон Хуан упрямо твердил, что его предпочтение вовсе не означает различия между тем и другим. Тогда я сказал, что, придерживаясь этой логики, можно задаться вопросом: если все безразлично, то почему бы не выбрать смерть?
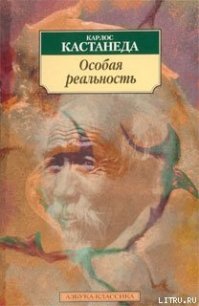

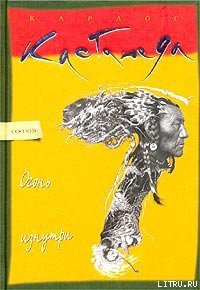
![Собрание сочинений [Том 1] - Кастанеда Карлос (серии книг читать бесплатно TXT) 📗](/uploads/posts/books/79280/79280.jpg)