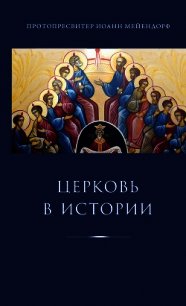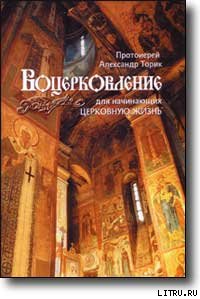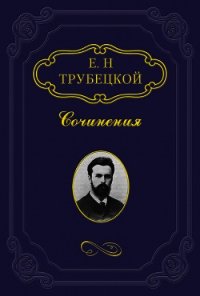Дом под утопающей звездой - Зейер Юлиус (е книги .TXT) 📗
— Простите! — было все, что я мог простонать.
Но Эдита уже была в агонии. Она не сказала больше ни слова и только прижала к груди его письмо… Ну, и вот так я убил и ее!..
— Несчастный! — крикнул я, опускаясь в кресло в невыразимом ужасе.
— Нет, нет! — как в безумии закричал Ройко. — Нет, я не был тогда несчастным! Я чувствовал то, о чем недавно говорил вам — наслаждение совершенного преступления. И только после, только после пришел этот страх и невыразимая мука! Только тогда, когда на меня смотрел горный излом! Только там, в старой комнате, куда заперли меня безумствующего, когда люди, найдя меня в каком-то эпилептическом припадке на дороге, возле той скалы, милосердно понесли бедняка обратно под кров замка, в котором она умерла! Да, только через несколько дней, в той сводчатой комнате, где от потолка опускались густые занавесы, заслоняя окна, только тогда, когда меня стала преследовать мысль, что я должен раздвинуть их, эти занавесы, что должен кого-то в тени их искать, когда я наконец понял, кого я должен искать там, когда был уверен, что там стоит она, мертвая, посиневшая, со стеклянными глазами, обвешанная старинными драгоценностями из изумрудов и опалов, в которых лежала она на парадном ложе перед погребением, с этим грозным искривлением смерти на устах, когда я знал, что она вот так стоит там, а за ней полная луна, белый диск, такой же бледный и мертвый, как лицо ее, а пустые, покрытые снегом поля распростираются за нею в синей, призрачной ночи, светлые и глубокие-глубокие, как пустота и ничтожество всего мира… — и вот тогда, тогда только я был совершенно несчастным!..

Ройко снова тяжело упал на постель, пена выступила на губах его, искривленных, дрожащих, вылетал чудовищный, нечеловеческий рев словно умирающего зверя. В больнице я привык ко многому, но этого зрелища не мог вынести, волосы поднялись на моей голове, я дрожал всем телом, и мне неясно вспомнилось, что когда-то в Чехии я слышал женщину из народа, говорившую: «Страхи обползают меня»… И меня теперь обползали страхи. Пересиливая себя, я подал больному необходимую помощь, но когда он опомнился настолько, что перестал стонать и кричать и неподвижно лежал на постели, я убежал из дома «под утопающей звездой», как бы преследуемый привидениями.
Я совладал с собой почти после часового беганья без цели по улицам — это был результат всех разнородных, сильных, потрясающих впечатлений этого дня, — и вернулся к Ройко, чтобы провести с ним ночь. Ведь я не мог оставить его без призора, а кроме госпожи Целестины, у которой было и так слишком много хлопот с Виргинией и своими сожительницами, в доме никого не было; заведовавшая же обыкновенно скромным хозяйством Ройко какая-то неразговорчивая, глуховатая женщина с первого этажа могла пригодиться едва лишь для того, чтобы вымести комнату, постлать постель и принести воды или угля.
Я остался у Ройко один, и, вопреки всем ожиданиям, больной провел эту ночь спокойно. Он лежал в каком-то летаргическом бессилии, а к утру погрузился в тяжелый сон. Сам я не мог ни на минуту смежить глаз. Меня обползали все страхи, и величайшим из них было то, что я начинал как-то слишком ясно понимать «наслаждение, проистекающее от сознания совершенного преступления». Минутами я чувствовал, что хотел бы испытать его, что я завидую преступникам. Это было как внезапная молния над пропастями и бездонными водами, молния, раскрывающая их скрытые грозные, но бесподобно красивые, смертельно влекущие чудеса и чары. Я схватывался тогда за голову, словно боясь за остаток своего ума. А потом, когда я отгонял от себя эти мысли, мне казалось, что я вижу глаза лорда Ангуса, адепта таинственных знаний, смотрящие на меня и точно распознающие во мне одного из тех, которые жаждут «посвящения». Старые мечты и тоска о том, чтобы познакомиться с кем-нибудь, кто провел бы меня через таинственный порог, за которым лежит неведомый мир, начали бурно роиться в моей душе. Ведь значит, это не были пустые мечты, такие люди жили, с ними можно было встретиться на безлюдных улицах, можно было угадать их, войти с ними в союз!
Голова у меня кружилась, и когда я смотрел в окно на старую, вековую ночь, омоложенную белыми звездами, у меня самого душа была полна звезд; во тьме перед моими глазами копошились длинные караваны идущих по безбрежным пространствам духов и сверхчеловеческих существ, ангелов и лярв, гениев и чудовищ; все они звали меня клыками, все словно приветствовали друг друга; в безмерной глубине затрепетала, казалось, громадная, мглистая, прозрачная и все же непроницаемая завеса, скрывающая высшие истины, и мое сердце забилось бурной, безумной надеждой, что когда-нибудь я буду в силах приподнять хоть край ее края! Пол столетия я пережил и перемечтал в эту короткую ночь!..
Утром я побежал домой, бросился на кровать, смертельно усталый, и погрузился в глубокое, тупое беспамятство…
Два дня я был болен и только к вечеру второго дня мог встать и пойти в дом «под утопающей звездой». Прежде всего я зашел к Виргинии. Она уже была почти здорова, хотя раны нужно было еще перевязать; но зато духом она сильно упала.
— Я дала ему знать через мальчика от сапожника внизу, — сказала она, — что прощаю его и прошу прийти. Потом я послала ему большую часть тех денег, которые вы мне дали. Деньги он принял и обещал забежать ко мне, — но не пришел. Арсенек, мальчик сапожника, видел его сегодня после полудня в сквере, за церковью Notre-Dame; он сидел под деревом с молодой женщиной. Ах, какая я несчастная!
Она замолчала и задумалась. Сидела она с опущенными глазами, не слышала, что я говорю ей, о чем спрашиваю, отвечала коротко, раздражительно, невпопад. Я оставил ее в этом грустном изнеможении, которого она не скрывала, и зашел в «клетку идиоток». Там был полный покой. Антония заплетала волосы и с улыбкой удовлетворения смотрелась в свое зеркало; бледная маркграфиня качала край своего одеяла, а госпожа Целестина готовила какую-то еду. Ее милая, полная примиренности улыбка произвела на меня прямо благодетельное впечатление; ее спокойствие и бодрость при работе подействовали на меня живительно. Эта женщина имела силу и отвагу для борьбы, которая называется жизнью. С минуту мы тихо поговорили о «наших пациентах», — и я пошел к Ройко.
И там на этот раз было все хорошо, по крайней мере, с виду. Правда, он был чрезмерно слаб, но ужасное возбуждение прошло; он только жаловался, что все члены его точно избиты и изломаны. Он сказал мне, что ему кажется настоящим наслаждением лежать без движения, как сваленное дерево.
Ни один из нас не сделал ни малейшего напоминания о вчерашней ужасной сцене, о его страшных воспоминаниях и ужасающей исповеди. Я тоже был как «побитый» и не имел желания разговаривать. Вынув из кармана купленную по дороге газету, я начал что-то читать вслух из нее. Но ничто не занимало ни меня, ни Ройко — и я бросил газету на пол.
— Если вы хотите что-нибудь прочитать мне, — сказал Ройко, — так откройте нижний ящик стола. Там есть зеленая папка, а в ней немного исписанных листов бумаги. Среди них вы найдете копию небольшого произведения де Куинси: «Левана и три Матери Скорби». Я знаю его почти наизусть, но охотно послушал бы, если б вы прочли его мне.
В указанном месте я нашел рукопись и начал читать вслух. Сначала только потому, что Ройко просил об этом… но вскоре, однако, содержание ее так заинтересовало меня, что я забыл обо всем, кроме того, что читал. Я привожу здесь вольный перевод, который я сделал для себя как-то позже, потому что это произведение никогда уже не переставало глубоко занимать меня. Оно очаровало меня в истинном значении этого слова, сразу, при первом же чтении.
Часто в Оксфорде видал я во сне Левану.
Я узнавал ее по ее римским символам.
Кто же такая Левана?
Читатель, не имеющий достаточно времени для приобретения большой учености, наверно, не станет сердиться, если я расскажу ему об этом.