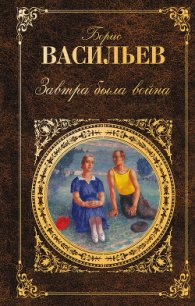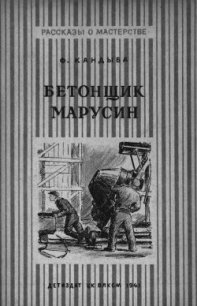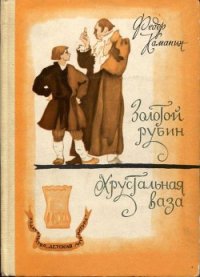Кажется, со мной пойдут в разведку... - Васильев Борис Львович (электронная книга txt) 📗
Я почти не говорил, только смеялся, большей частью невпопад. Зато она болтала за двоих, и скоро я узнал, что она инженер, ездила в Ярославль в командировку, а сейчас возвращается на завод. Узнал, что резина на катках вездехода никуда не годится, что вентилятор еще не отработан, что мотор перегревается на тяжелых грунтах, что… Словом, я узнал все, кроме того, что случилось в Ярославле и почему она плакала вчера вечером.
По-моему, потом я уже ничего не соображал. Я смотрел в ее шоколадные глаза, слушал, как бьется мое сердце, и думал, что такой красивой женщины я никогда еще не встречал. Даже знаменитая Ирка из 9-го «Б», в которую была влюблена вся школа, теперь казалась мне просто смазливой ломакой.
Пришел лейтенант. Он страшно радовался, что едет в гражданском и может плевать на патруль. Спать он не желал, но Владлена все-таки уложила его. Мы с нею вышли в коридор и, вероятно, простояли бы там до утра, если бы проводница не предупредила Владлену:
— Через час ваша остановка.
— Жаль, — сказала Владлена и пошла в купе укладывать вещи, а я остался.
Я ни о чем не думал. Просто слушал, как стучат колеса, и смотрел в темноту, подставив лоб ночному ветру. Было очень грустно и тревожно, и я чувствовал, что сейчас сделаю либо непоправимую глупость, либо шаг навстречу счастью. Я прошел в купе и снял сверху два чемодана — ее и свой…
Поезд ушел. Мы стояли на маленькой, скудно освещенной платформе. Было два часа пятнадцать минут.
— Если бы ты был хоть на пять лет совершеннее, я бы, пожалуй, влюбилась в тебя, — сказала Владлена. — Пойдем в зал: первый автобус на завод только в пять утра…
Прошел месяц, и вот я лежу на горячем песке рядом с опытнейшим водителем завода. Он хороший парень, и я готов терпеть его насмешки. Готов не спать ночей или валяться на песке, когда вездеход отправляют на ремонт. Готов жевать черствый хлеб, запивая водой, когда «мотают километраж» и нет времени даже на то, чтобы перекусить в какой-нибудь придорожной забегаловке. Готов махать кувалдой до оранжевых кругов перед глазами, соединяя тяжелые траки гусеницы. Ко всему этому я подготовился, когда стоял один в коридоре вагона и слушал, как стучат колеса. Но к одному я оказался не готов — к тому, что я и Владлена будем работать на расстоянии двухсот километров друг от друга: она осталась на заводе, а меня сразу же послали на испытания…
Фишка поднимает лохматые уши. Пес он деликатный и никогда не позволит себе залаять, если хозяева молчат. Только поднимает уши и чуть слышно ворчит.
Я тоже прислушиваюсь: из-за кустов доносятся неразборчивые голоса. Федор садится, обняв голые колени. — Кто-то пожаловал. Поинтересуемся? Не ожидая ответа, он встает и, пригнувшись, идет к кустам. Он умеет ходить так, что не дрогнет ни одна ветка. Фишка бежит впереди, прижав уши и оглядываясь. Я поднимаюсь, когда оба скрываются в кустах.
Я хожу, как всякий нормальный городской житель: спотыкаюсь на ровном месте и цепляюсь за кусты. Исцарапавшись и вдоволь наломав веток, выдираюсь наконец на простор.
Противоположный берег скрыт песчаным косогором. Мне не видно, что там происходит, но голоса слышны отчетливо: молодые девичьи голоса. Федор лежит на вершине, замаскировавшись кустами лозняка. Фишка расположился рядом. Пыхтя и оступаясь в сыпучем песке, поднимаюсь к ним. Федор грозит кулаком:
— Тихо!
Сдерживая дыхание, тяжело плюхаюсь на горячий песок. Устроившись, осторожно выглядываю.
До противоположного берега можно спокойно добросить камень. Он рядом — узкая полоска песка, с трех сторон зажатая непролазными зарослями ольшаника. На кустах белеют полотенце, платья и что-то еще, а у самой воды — две девушки. Толстуха сидит лицом к нам, подняв коленки и скручивая на затылке волосы. Сначала мне кажется, что на ней белый купальник, но потом понимаю, что ничего на ней нет, а то, что я принял за купальник, — просто куски незагорелого тела. Улыбаясь, она что-то говорит второй, но слов не разобрать: рядом журчит протока.
Вторая — тоненькая, с покатыми плечами и прической, какую можно соорудить только в городе, — стоит возле. Она уже сняла платье, и то, что пока осталось на ней, невесомо и не предназначено для пляжа.
— Кино… — беззвучно шепчет Федор. — Как это называется?
Я знаю, как это называется: стриптиз. Я никогда не видел его, но наврал ребятам, что однажды попал в Дом кино на закрытый просмотр французского фильма, где под музыку раздевалась героиня. А на самом-то деле я впервые вижу девушку не в купальнике, и сердце стучит так, словно я второй час подряд машу полупудовой кувалдой.
Засмеявшись, она отводит руки за спину и, шевельнув плечами, сбрасывает лифчик. Размахнувшись, бросает лифчик к кустам, но он не долетает и мягко ложится на песок. А она вертится по берегу, приплясывает, и размахивает руками, и смеется, закинув голову. Белая девушка в розовых трусиках на желтом песке. Она танцует и поет, и сквозь безостановочное журчание воды я слышу, что она поет. Сейчас она снимет последнее, что на ней надето. Снимет, поскольку не знает, что мы лежим за кустами. Снимет и станет еще беззащитнее. И тут вдруг я подумал, что кто-то вот так же тайком подглядывает за Владленой, видит, как она раздевается, как поет и танцует для самой себя. Подумал, и мне стало жарко— кажется, я даже покраснел, — и что есть силы заорал то, что пела девушка:
— Пусть всегда будет мама!..
Что тут началось! Фишка залаял, девушки с криком бросились в кусты, а мы с Федором, пригнувшись, ринулись назад и остановились только у нашей заводи.
— Псих, — отдышавшись, говорит Федор.
Я ожидаю бури, но он молча натягивает штаны, закидывает на плечо майку и, не оглядываясь, идет к базе. Я остаюсь один.
Я понимаю, почему Федор злится: за всю жизнь я не слышал столько разговоров о «бабах», сколько наслышался за этот месяц. Все, кто приезжает к нам, словно с цепи срываются. Я слушаю всегда с замиранием сердца, ожидая, что вот-вот кто-то со смаком, с разухабистой циничностью помянет Владлену…
И все-таки подглядывать подло. Пусть меня сколько угодно называют сопляком, мальчишкой, психом — я не играю в такие игры. Пусть я рискую навсегда потерять расположение Федора и других ребят, пусть так, но я не могу поступить иначе. Не могу и не хочу. Влажный нос тычется мне в плечо: вернулся Фишка, провожавший Федора до базы. Он очень привязан ко мне — вероятно, за то, что я первым назвал его Фишкой.
— Ну, что скажешь хорошего, пес?
Пес усиленно машет хвостом и пытается улыбаться. Конечно, было бы здорово обнаружить сейчас за ошейником записочку: «Прости, друг, ты абсолютно прав». Но с ошейником Фишка незнаком, а Федор никогда не напишет записки…
Я ложусь на спину и закрываю глаза. Солнце бьет в лицо, жаркие лучи проникают сквозь веки, и мне кажется, будто я плыву в густом розовом тумане. Он клубится, то рассеиваясь, то сгущаясь, и я сначала смутно, а потом все яснее и яснее вижу розовый песок, и розовые кусты, и розовую девушку, танцующую в розовых трусиках на розовом берегу… Я поспешно открываю глаза и сажусь: такие розовые видения мне совсем ни к чему.
Фишка чуть слышно скулит: время обеда, а за этим он следит с точностью хронометра. Я вспоминаю, что сегодня дежурю, и начинаю натягивать джинсы…
С питанием у нас дело поставлено на прочную ногу. Наш завхоз — тщедушный пожилой человечек, поросший каким-то гагачьим пухом вместо волос, — привез из города бездну свиной тушенки, а колхоз вдоволь снабдил картошкой. Завхоза все зовут Ананьичем, и никто не знает, сколько ему лет. Раздобыв тушенку и картошку, Ананьич решил, что с него хватит хозяйственной деятельности, и ударился в длительный загул.
Ананьич исчез, а тушенка и картошка остались. Правда, среди ребят ходили слухи о каком-то мешке с макаронами, но мы с Федором мешка этого не нашли. Это навело Федора на здравую мысль, что хозяйственный Ананьич обменял макароны на самогонку. Мы прекратили розыски и стали три раза в день готовить картошку с тушенкой. Поскольку готовили мы с Федором по очереди, то, естественно, могли заимствовать опыт только друг у друга. В результате естественного отбора в нашем меню утвердилось два блюда: либо мы бухали тушенку прямо в кипящую воду и таким несложным путем вырабатывали суп, либо отварная картошка перемешивалась с тушенкой, и получалось второе. Как бы там ни было, а Фишка ни разу не отравился.