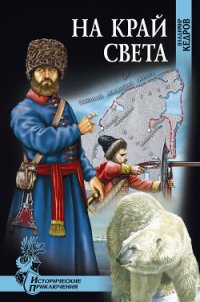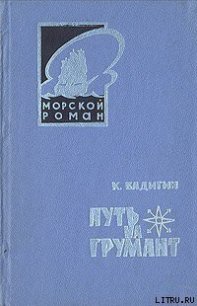Повести и рассказы - Шергин Борис Викторович (лучшие книги читать онлайн бесплатно .TXT) 📗
Смотри-ко, как вместе небо с землею. Как земля живет и дышит, как зависит от неба. Я говорю здесь о дождях, о снеге, о ветрах… Лес, поля, вот эти кустышки травы, глинистые дороги с глубокими колеями, с дождевыми лужами, стаи галок, ворон, то прилетающие, то опять исчезающие куда-то, -как все это связано с временем года, с состоянием погоды. О, добро человеку жить, как галка и ворона! Он сохранит душу живу…
Погода стала строптивиться. По дню-то и дождь не раз пробрызнет, и ветер со всех румбов, и солнышком с краю поманит. Облаки уж все по сезону: с темной подкладкой. Холодное сей год «бабье лето»…
Отвык давно от этого ощущения счастья. Душа-точно беспокойная, бесприютная, безнадежная птица нашла родимое гнездо. Есть ли большее счастье, как улучить, обрести это единство, тождество своего душевного устроения с душевным состоянием природы? Не сады, не парки, не луга, не нивы… Заунывная равнина. Ухабистые глиняные дороги. Изрытые и брошенные поля. Молчаливо, согняся под мешком картофеля, опираясь на лопату, пробредет человек – и нет никого. Над молчащею равниной низко склонилось облачное небо. Быстро опускается вечер. Редкие корявые сосны вдоль дороги теряются вершинами в сумеречном небе. Печаль убогих полей, пустынность дорог, одиночество этой равнины… О, любимая моя царица – бедность.
Говорят, душа не хочет расстаться с телом, когда начинают петь и играть гусли. И душа птицею устремляется на этот зов.
Я увидел, узнал, нашел себя бесконечно своим этой заунывной осенней заре, бесприютности этих вечерних полей и дорог. Душа находила свое, она летала как птица; сладко ей было пребогатое молчание заунывных далей, безглагольных дорог. Никакая музыка не бывала столь вожделенной, никакая песня столь родимой, ничто не звало душу столь властно. Давно не слышал я столь родимого голоса и зова, каким позвал меня этот осенний пустынный вечер.
На западе, низко над землею, все время сияла широкая, как река, лента зари. Ее немеркнущее золото было как обещание, как победа. И радость единства убогой души с бедною природой венчалась венцом надежды на счастье таинственное.
Уж таково-то душевно насытил я сей год свое сердце «небесьем» осенним, величавым, среброоблачным. Осень подошла величавая. Вечерами по залесью туманисты дали. Застегнувшись да шапчонку нахлобучив, посиживаю на улице, поглядываю. Что же я так рад приходу осени? Или она мне по нраву, или я ей по душе?
По горизонту то ли облака земли касаются, то ли мать сыра земля туманы возносит… Обвечерело, сумерок опустился, в перелеске галки на сон гнездятся, еще тараторят. Не наговорились за день-то… А се и писать не видно. Далеко на огородах костер замигал.
Я трепетно обожаю предначатие весны. Но весна для меня – «невеста неневестная». Душа моя молится таинственной поре – времени марта…
Осень приемлется в иных переживаниях и настроениях. Когда поля сжаты и побурели, леса оголены, дороги блестят лужами, ветер гонит по небу серые облака, утро туманно, а ночью стучит в окно дробный дождь, -кому желанна эта пора? А мне она люба и желанна. Потому что никто ее у меня не отымет, никто не станет оспаривать. Я сватаюсь по осени, и она идет за меня. Венчаться, венчаться надобно человеку с природою, с временем года и жить вкупе и влюбе.
Роскошь фетовской весны, май, соловьи, ахи и вздохи под черемухой душистой – этому я не пайщик. Не станет меня с это. Ну и «золотая осень», олеографичная: на нее все зарятся. Я люблю рисунок мокрых сучьев и веток на фоне серого неба «осени поздней».
Когда «открыта» была новгородская икона, отошли в сторону музейно-ювелирные представления о древнерусской живописи, существовавшие в России, скажем, до выставки древнерусского искусства в 1913 году.
До тех пор почему-то с представлениями о древнерусском искусстве связывались или «фотографии Борщаговскаго» (чеканка, орнамент) или «боярский стиль» (картины Шварца, Маковского и др.). Васнецов, Нестеров, Абрамцево подвели к «новгородской» иконе. И вот точно завеса упала с глаз: увидели и удивились. Увидели искусство как бы о другой планеты Искусство светлое, широкое, «простое», но как бы искусство иного мира, даже иного народа. Четыре столетия, отделяющие нас от XIV-XV веков, веков расцвета русской культуры, чрезвычайно изменили характер художественных восприятий народа.
Но не о древнерусской живописи собрался я сейчас говорить.
Новое, великое и чрезвычайно своеобразное искусство новгородское ведь одна из граней жизни той замечательной эпохи, столь отгороженной от нас. О той эпохе, или эпохах, мыслим мы или схемами и хронологиями учебников истории, или приходят на ум, если мы хотим представить живых людей, исторические романы XIX века: Загоскин, Соловьев, Мордовцев, также оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Чародейка», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Снегурочка»…
Историческая беллетристика и историческая опера XIX века могут быть сами по себе хороши, изобличая таланты авторов, но историческая беллетристика – это почти сплошная фальшь. Так же картины Маковского.
Но я ушел в сторону. Все они, и романисты-писатели, и живописцы, включая Васнецова и Сурикова, и музыканты, включая Мусоргского и Римского-Корсакова, показывают нам как XIX век, с середины которого началось «возрождение национального русского искусства» в живописи, и в архитектуре, и в музыке (только не в литературе), все они показывают только свое представление о жизни и людях Древней Руси. И в этом их право.
Может быть, здесь в чем-то мы видим Русь XVII века, даже XVI. Но подлинного лика удивительных эпох Новгорода, Радонежа, Андрея Рублева здесь нет.
Теперь, после «раскрытия» икон, мы видим, какою была живопись – столь связанное с жизнью и бытом, столь почитаемое искусство.
Мы говорим: «Вот они какие, эти жизненные святыни наших предков! Какая она странная, и непонятная, и прекрасная – душа наших праотцев, отобразившая себя в этих картинах на доске. Как все это, говорим мы, непохоже на привычные наши представления о Древней Руси…»
Итак, мы видим икону-то, что было прижато у сердца древнерусского человека. Но в такой же яви, в такой же непосредственности и подлинности, столь же осязаемо и ощутимо мы не видим, как жил с этою иконою человек XIV – XV веков. Лик иконы выдвинулся из глубины веков, а люди и дела, с которыми икона жила, остались в туманной дали преждебывших времен.