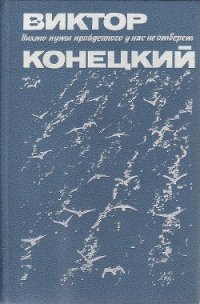Среди мифов и рифов - Конецкий Виктор Викторович (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно .TXT) 📗
Соблазн отождествлять автора с литературным образом, особенно если рассказ ведётся от первого лица, бытует в читающей публике уже давно, с тех пор как эта публика появилась. И необходимо подчеркнуть, что, хотя рукопись Геннадия Петровича не может не носить следов моего пера, отношусь я к Геннадию Петровичу как Лермонтов к Печорину — Бог меня прости за такие параллели!
Истинный автор умер седьмого сентября шестьдесят шестого года. Название я сохраняю авторское: «Хандра».
«Деревянный двухэтажный дом стоял в снегу, среди старых елей. В лёгких летних верандах окна были синими от изморози.
Мне дали светлую, тёплую комнату. И это было хорошо. А особенно хорошо было то, что комната квадратная. Мне нужна симметрия.
До обеда оставалось ещё часа два, и я пошёл прогуляться.
Падал снег. Ветра в лесу не было. Высоченные старые ели ловили снежинки складками коры, ветками, каждой хвоинкой. И всё стало белым, обвисло, опустило плечи под тяжестью снега. И вдруг какая-нибудь ветка вздрагивала, снег падал с неё, ветка радостно взмахивала над угнетёнными подругами. И казалось, взлетела большая птица.
Однажды я услышал в лесной тиши гитарный звон, долгий-долгий. И не сразу понял, что это упавшая с дерева льдинка задела где-то провода.
С детства я боюсь леса, хотя люблю каждый лист, травинку, ягодку и муравья. Не заблудиться боюсь, или нападения, или страшного зверя. А ощущаю лес живым единым организмом, с разумом. И лес смотрит на меня неодобрительно, потому что я глубоко чужд ему. Он дышит и шевелится не в такт с моим дыханием и движениями. Между тем говорят, что подружиться со зверем может только тот дрессировщик, который дышит со зверем в такт.
Слишком я занят собой в лесу. Он обостряет чувства, и я быстро устаю от их интенсивности. И от количества мыслей, мелькающих без системы и плана. Это даже не мысли, а обрывки мыслей, мечтаний, воображений, воспоминаний. И неожиданные, точные догадки, даже озарения, связанные с работой. Всё это беспорядочно и густо замешано.
Я слишком становлюсь самим собой. И поворачиваю, укоряя себя за неумение быть с природой внутри неё, неумение обойтись без людей и книг, от которых ушёл с удовольствием. И знаешь: пробудь в лесу дольше, и важные, точные решения, связанные с жизнью и работой, озарят. Но поворачиваешь к обжитому, к людям.
Никто без важного дела не надоедает действительно замкнутым, молчаливым личностям. А ко мне, даже если я настойчиво отстраняюсь, люди пристают. Они чувствуют мою зависимость от них. Я срываюсь на грубость и наживаю врагов, а это утомительно. Я не люблю иметь врагов, я не Дон Кихот и не Лермонтов.
В тот раз я не повернул обратно. Мне после травмы следовало дышать свежим воздухом, надо было заботиться о физическом состоянии организма. От слов „организм“, „симпозиум“ меня начинает мутить. Но я заставил себя думать о здоровье и в одиночестве пошёл дальше по зимнему лесу. Это было смешно, потому что уже в юности мне стало казаться, будто я стар и неизлечимо болен и никакой свежий воздух, рационы, режимы, ограничения в вине или курении мне не помогут.
И я никогда не берёг себя: всё, мол, уже поздно. Это, между прочим, очень российское качество.
Но женщина, которую я любил, не соглашалась со мной. Она хотела, чтобы я думал о длинной, здоровой жизни. Мы встретили с ней однажды котёнка в зимнем лесу и гнали его к деревне по глубокой снеговой дорожной колее. Он был уже не очень маленький, но глупый. Белый, испачканный углём, с розовым носом. Мы боялись, что он заблудится и замёрзнет или его схапает лесной зверь. Он неохотно бежал перед нами и часто оглядывался. Мы смеялись. Нам было хорошо тогда. Её смех наполнял весь лес. Лес признавал её своей.
Я шёл зимним лесом совсем один.
Старые ели сменились соснами, молодыми, растущими густо, отчего ветки их торчали вверх, и лес поскучнел, потерял в сказочности и таинственности. Наст под соснами был гладкий, свободно укреплённый ветрами. Но и на этом насте виднелись вмятины от комков упавшего с веток снега. Тучи извивались вяло, как махорочный дым.
И я заметил тишину. Тишину, от которой зазвенело в ушах. Оказывается, я заметил тишину, потому что она исчезла.
Два тяжёлых танка вывернули из-за поворота. Они были по-боевому задраены, без видимых людей. И неслись прямо на меня в облаках снежной пыли. Не хотелось отступать за обочину, в сугроб, набивать снег в ботинки. И я сделал ещё несколько шагов, рассчитывая на совесть водителей. Но танки сокрушительно пёрли прямо на меня, и передний пипикнул неестественно тоненьким голоском, требуя пространства. Я отступил. Снежная пыль, грохот и солярный выхлоп взвихрились вокруг. И очень скоро всё опять затихло в лесу.
— Не надо было отступать, — обязательно сказала бы мне женщина, с которой когда-то мы гнали котёнка к деревне.
— Вам следует вернуться в пятый класс, — буркнул бы я.
— Они бы свернули, надо было немного помедлить.
Конечно, если она вдруг явилась, то могла бы спросить, почему я здесь и как себя чувствую после аварии. Но она только смеялась, что я испугался танков. Когда-то она водила меня по тонкому льду Финского залива. Она видела, что я трушу, и специально уводила дальше и дальше от берега. Всё это было. Финский залив, ледяной слабый припай, ветер…
Теперь её сын учится уже в восьмом классе и занимается музыкой.
По широким следам танков шагалось быстрее, и я запарился. Сосняк кончился, к дороге склонились через канавы старые вётлы. Их тонкие ветки не удерживали снега, верхушки деревьев были цвета охры, пушистыми, лёгкими. Отмёрзшие нижние сучья ржавились заскорузлыми лишаями.
Слева за вётлами виднелась равнина с редкими перелесками, справа темнели свежие земляные обвалы. И сперва почудились в этих обвалах и отвалах следы войны. Но это оказался карьер.
На отвороте к карьеру стоял человек. Он был в ватнике, ватных штанах, валенках с галошами и солдатской ушанке.
— Эй, чего делаешь? — спросил он, когда я подошёл.
— Гуляю.
— А я машину жду, оказию, к шоссейке, к антобусу, в город.
Он был небрит и отменно некрасив. Длинный нос-хобот, штук пять железных зубов; морщинистый, но ещё не старый. Пахнуло от него пропотевшей одеждой и давно не мытым телом.
— Ну и что? — спросил я. Хотелось отделаться.
— Пойдём вместе. К шоссейке, — решил он.
Я понял, что он будет много говорить. Разговор, согласно пословице, сокращает дорогу. А я очень не люблю, когда, например, едешь в такси и попадается разговорчивый таксист. Особенно если рассказывает он вещи тяжёлые, о несправедливости например, и как бы ждёт от тебя помощи. Чужие несчастья расстраивают меня не меньше собственных. Но не скажешь чужому человеку: „Помолчите!“ И я вытащил сигареты, чтобы угостить попутчика.
— Нет, не курю, — отказался он и забормотал сиплым голосом, что робит в кочегарке при санатории, дым вонючий задувает, пылюка от угля, кашля, грудь табака не принимает; всю жизнь рабочий, хотя землицы есть несколько соток; теперь жизня хорошая: хата, где обогреться, есть, картошка есть, а где картошка — там и кабан, а что ещё надо?..
Слова его разделялись матерщиной, неясным бормотанием и даже мычанием. Я понимаю такую речь, хотя она не доставляет мне удовольствия. Он чувствовал, что я понимаю, и продолжал говорить и говорить:
— Ну что, воевал с сорок первого ить до сорок шестого, ить вернулся, а детишек четверо, ить хлеба один кусок на усех, назавтра робить пошёл, ить раны ще болели.
Он не жаловался, наоборот, несколько раз повторил, что жизнь делается лучше, и главное: чтобы опять не было войны — „страшного дела“.
У нас считается, что русский солдат на войне работает, воспринимает её как страшный, тяжёлый, но труд. Труд по сохранению своей жизни и уничтожению противника. Труд по созиданию мира через войну. И мы даже обратной связью теперь называем широкую, большую работу „фронтом“, а руководство — „штабом“. Может, это и полезно, но мне иногда жутко слушать про войну как про труд и про труд как про сражение.