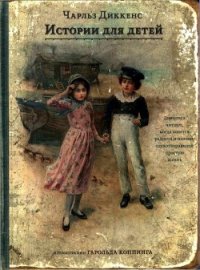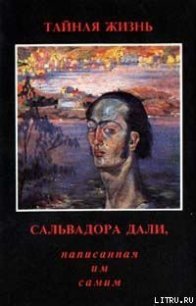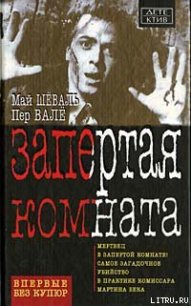Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Книга 2 - Диккенс Чарльз (книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Я не мог забыть, что сам решил, каково то чувство, которое она ко мне питает. Если когда-нибудь она любила меня иной любовью – а мне казалось, такое время было, – я пренебрег этой любовью. Когда мы оба были детьми, я привык смотреть на нее как на существо, на которое не простираются мои сумасбродные мечтания. Я отдал свою нежность и страсть другому существу. Я поступил не так, как мог бы поступить, и тем, чем она стала для меня, я обязан себе и ее чистому сердцу.
Когда перемена во мне, которая происходила постепенно, только еще началась и я пытался понять самого себя и исправиться, я возмечтал о том, что после искуса, быть может, наступит день, когда я смогу исправить ошибку прошлого и мне выпадет на долю великое счастье стать ее мужем. Но время шло, а с ним рассеялись и туманные надежды. Если она и любила меня когда-нибудь, она становилась благодаря этому еще более священной для меня. Я слишком хорошо помнил те признания, какие я ей делал, помнил, как открывалось перед ней мое мятущееся сердце, знал цену жертв, какие она принесла, чтобы стать моим другом и сестрой, и победы, которую она над собой одержала. Если же она никогда меня не любила, как могу я думать, что она полюбит меня теперь?
Я всегда сознавал, насколько я слаб рядом с ней, такой твердой и сильной. Теперь я чувствовал это еще глубже. Кем бы я стал для нее, а она для меня, если бы я оказался ее достойным? Какое это имеет значение, раз этого не случилось! Все отошло в прошлое. Виновник – я сам и, потеряв ее, наказан по заслугам.
Да, в этой борьбе я страдал жестоко и горько раскаивался; однако все время меня не покидало чувство, что по чести и справедливости я должен отбросить недостойную мысль вернуться к дорогой мне девушке, когда все мои надежды рассеялись как дым, – к девушке, от которой я легкомысленно отвернулся в пору их расцвета; чувство это неразрывно было связано со всеми моими размышлениями о ней. Я не мог скрывать от себя, что люблю ее и готов посвятить ей всю мою жизнь, но я ехал домой убежденный, что теперь уже слишком поздно и в наших давних отношениях ничего не может измениться.
Часто и подолгу я думал о том, что говорила моя Дора о судьбе нашего брака через несколько лет, если бы этому браку суждено было продлиться. И я понял, что несбывшееся нередко является для нас, по своим последствиям, такой же реальностью, как и то, что свершилось. Теперь эти годы, о которых она говорила, минули – они были реальностью, ниспосланной мне в наказание, и не за горами мог быть предреченный ею день, если бы мы не расстались с ней навсегда, пока были еще совсем юными и безрассудными. Я попытался представить себе, как приучился бы я к самоограничению под влиянием Агнес, каким стал бы решительным, насколько лучше знал бы самого себя, свои недостатки и заблуждения. И, размышляя о том, что все это могло быть, я пришел к выводу, что это никогда не сбудется.
Вот каково было мое душевное состояние, подобно зыбучим пескам, переменчивое и неустойчивое, с момента отъезда до возвращения домой по истечении трех лет. Прошло три года со дня отплытия корабля с эмигрантами, и в том же самом месте и в тот же самый час заката я стоял на палубе пакетбота, доставившего меня домой – стоял и смотрел на розовеющую воду, в которой отражался корабль.
Три года. Как много времени, и вместе с тем как мало, когда они миновали! Мне была дорога родина и дорога Агнес… Но она не была моей. И никогда не будет. Когда-то она могла быть моей, но это было когда-то…
Глава LIX
Возвращение
Осенним холодным вечером я высадился в Англии. Было темно, шел дождь, и за минуту мне довелось увидеть больше тумана и грязи, чем за целый год. В поисках кареты я прошел от таможни до Монумента, и хотя дома, обращенные фасадом к канавам, полным воды, казались мне старыми друзьями, я не мог не пожалеть, что эти друзья чересчур грязны.
Давно мне приходилось замечать – да, пожалуй, и каждому приходилось, – что, когда уезжаешь из знакомого места, этот отъезд является сигналом к всевозможным переменам. Из окна кареты я видел, что старинный дом на Фиш-стрит-Хилл, к которому целый век не прикасались маляры, плотники и каменщики, снесли в мое отсутствие; увидел, что находившийся в соседней улице другой дом, чья неприспособленность к жилью и неудобства были освящены временем, подвергся перестройке, и, право же, я почти ожидал, что собор св. Павла покажется мне более древним, чем раньше.
О переменах в судьбе моих друзей я был осведомлен. Бабушка уже давно вернулась назад в Дувр, а Трэдлс вскоре после моего отъезда начал помаленьку выступать в суде. Теперь он проживал в Грейс-Инне и в одном из своих последних писем сообщил мне, что лелеет надежду скоро сочетаться браком с самой замечательной девушкой на свете.
Они ждали меня домой к рождеству и не помышляли о том, что я приеду так скоро. Мне хотелось сделать им сюрприз, и потому я намеренно ввел их в заблуждение. Однако я был достаточно непоследователен и почувствовал себя несколько обескураженным, когда меня никто не встретил и мне пришлось ехать одному, в полном молчании, по улицам, утонувшим в тумане.
Впрочем, знакомые лавки с приветливо светившимися витринами подбодрили меня, и, когда я вышел из кареты у входа в кофейню в Грейс-Инне, я обрел хорошее расположение духа. В первый момент кофейня напомнила мне о тех временах, когда я проживал у Голдн-Кросс, и обо всем, что с той поры произошло. Но это было вполне естественно.
– Не знаете ли вы, где живет в Инне мистер Трэдлс? – спросил я лакея, греясь у камина в зале кофейни.
– Холборн-Корт, сэр. Номер два.
– Скажите, приобретает ли мистер Трэдлс известность среди адвокатов? – осведомился я.
– Вполне возможно, сэр. Но об этом мне ничего не известно, – ответил лакей.
Лакей – он был средних лет и худощав – прибегнул к помощи другого слуги, занимавшего пост более высокий; это был человек тучный, с двойным подбородком, пожилой, внушительный на вид; на нем были черные штаны и чулки. Он вышел из-за загородки в конце зала, напоминавшей загородку, за которой находится скамья церковного старосты; там он восседал перед денежным ящиком, адресной книгой, списком адвокатов и другими книгами и бумагами.
– Справляются о мистере Трэдлсе, Холборн-Корт, второй номер, – сообщил ему худощавый лакей.
Внушительный на вид слуга знаком велел ему удалиться и медленно повернулся ко мне.
– Я спрашивал, приобретает ли мистер Трэдлс из номера второго на Холборн-Корт известность среди адвокатов? – снова спросил я.
– Никогда о нем не слышал, – густым басом ответил старший слуга.
Мне стало обидно за Трэдлса.
– Он человек молодой? Давно в Инне? – спросил величественный слуга, строго на меня глядя.
– Около трех лет.
Слуга, живший за своей загородкой церковного старосты, пожалуй, лет сорок, не удостоил вниманием столь незначительную особу. И спросил, что мне желательно на обед.
Тут я почувствовал, что снова нахожусь в Англии, и был несказанно обижен за Трэдлса. По-видимому, ему не везет. Я смиренно заказал рыбу и бифштекс и, стоя перед камином, размышлял о неизвестности Трэдлса.
Старший слуга то появлялся, то исчезал, и, наблюдая за ним, я пришел к выводу, что почва в саду, где возрос этот цветок, весьма неблагодарная. Здесь все имело большую давность, все казалось издавна застывшим, торжественным, церемонным. Я окинул взглядом зал: пол посыпан был песком так же, как в те времена, когда старший слуга был ребенком, если он был им когда-нибудь, что крайне маловероятно; в отполированных столах старинного красного дерева я видел свое отражение; на начищенных лампах не заметно было ни единого пятнышка; удобные зеленые портьеры на блестящих медных прутьях занавешивали вход в каждое из отделений общего зала; в обоих каминах весело пылал уголь; ряды внушительных графинов, выстроенных в образцовом порядке, свидетельствовали о том, что в погребе вы найдете бочки дорогого, старого портвейна. Англию, как и юриспруденцию, мелькнула у меня мысль, весьма трудно взять приступом… Я поднялся наверх в свой номер, чтобы переодеться, так как мое платье промокло. Внушительные размеры обшитой панелью комнаты (помнится, она находилась над аркой, ведущей в Инн), необъятная кровать под пологом, непоколебимо важный комод – все, казалось, восставало против успеха Трэдлса или другого, такого же юного смельчака. Снова я спустился вниз и уселся за обед. Сервировка стола и строгая тишина в зале – летние каникулы еще не кончились, и посетителей не было – красноречиво свидетельствовали о дерзости Трэдлса, предрекая ему, что на пристойное существование он может надеяться лет через двадцать, не раньше.