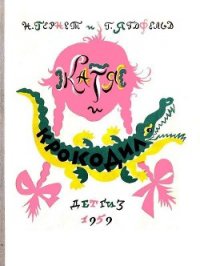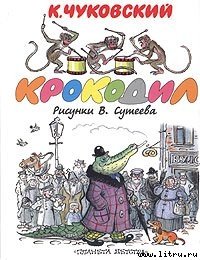Юмор серьезных писателей - Достоевский Федор Михайлович (книги без регистрации TXT, FB2) 📗
— Хватит! — повторил Иося. — За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!
Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.
— Плачь, дурной, — спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор. — Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.
— Кончайте! — крикнул Иося. — Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.
— Дурной ты был и остался дурной, — печально ответил Никифор. — Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.
— А на кого вы хату покинули? — спросил Иося, перестав плакать.
— Ни на кого. Заколотил — и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!
Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.
— Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор. — Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?
Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.
Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего — все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.
Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.
От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.
От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос — кто я и зачем попал в это местечко.
Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:
— Лазарь! — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. — Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!
Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.
— Как увидит кого в парикмахерской, — объяснил он со вздохом, — так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.
— А что с ним? — спросил я.
Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными блестящими от волнения глазами.
— Слушайте, клиент! — сказала она. — Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.
— Маня, — сказал парикмахер, — не увлекайся.
Иоська кричал где-то уже в отдалении:
— Какой ужас! — сказала Маня. — И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи — самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!
— Что ты такое говоришь, Маня! — воскликнул парикмахер. — Клиент же ничего от тебя не поймет.
— Была у нас ярмарка, — сказала Маня. — На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу, — глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно было бы жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете — Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой, как жена, и он был такой веселый, Иоська, — светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?
— Ой, тетя Песя! — вздохнул парикмахер. — Это была женщина!
— Постой, дай рассказать! — прикрикнула на него Маня. — Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вызнаете, что она ему ответила! «Вы не раввин, — сказала она. — Вы городовой! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».
Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную, — говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур, в Судный день, она как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая, — должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.
— Я б на его месте предпочел умереть, — сказал парикмахер. — Пустил бы себе пулю в лоб.
— Ой, какие вы храбрецы! — воскликнула Маня. — А как дойдет до дела, то будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.
— Что женское, что мужское сердце, — ответил парикмахер и пожал плечами, — какая разница!
Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Иоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.