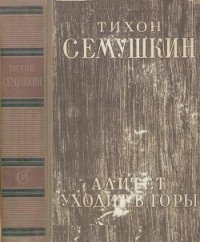Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
— Выспался? — спросил Петро, услышав за своей спиной, что Михайло очнулся ото сна.
— Не очень, — ответил Щерба. — А ты все пишешь? — Щерба подложил под голову ладонь, потянулся, позевывая. — Пиши, пиши, но подальше от политики. Слышишь, Петро? Время военное, цензура обязательно ее зацепит.
— Ладно, Михайло, буду осторожен.
Щерба отвернулся, чтобы еще немного подремать или хотя бы отлежаться перед дальней дорогой в Швейцарию. В хате полумрак, от настольной лампы под абажуром светлый круг ложится лишь на белый лист бумаги, по которой выводит мелкие чернильные строчки Петрова рука. Щерба лежит с закрытыми глазами, перебирая в памяти свой недавний страшный сон. Перед ним скалистый берег Сана под высокой Замковой горой и серебристая стремнина воды, по ней, взметая отливающие золотом брызги, плывет Ванда. Щерба любуется ее сильным, красивым телом, перекликается с ней. Почему-то забыв о конспирации, она кричит ему: «Михайлик, мой любимый, солдаты, что прочтут наши листовки, не будут больше стрелять в москалей! Пусть лучше стреляют во Франца- Иосифа!»
Щерба порывается остановить безудержный фейерверк радостных слов, предупредительно машет дивчине руками, показывает на замок, откуда, возможно, следит за ними сам комендант жандармерии пан Скалка. Ванда тем не менее не замечает его знаков и, продолжая тешиться своим торжеством, плывет… Боже ты мой, у Щербы перехватило дыхание: Ванда плыла к ольховецкому берегу, на котором стоит полковник Осипов. «Ванда, Ванда!» — хочет крикнуть Щерба, но голос у него пресекся. Потный от страха, он чувствует: ему нечем дышать, и сердце у него не выдержит, если он тотчас не пробудится.
Он проснулся и теперь напрасно пытается заснуть. Сон уже далеко, его не догонишь. Он ласково улыбнулся своей Ванде, оставленной вчера на саноцком перроне с застывшими слезинками в глазах. «Я же говорил тебе, моя любимая, верь в мое счастье. Даром что восемь километров отмахал по сугробам до Синявы, зато сейчас почиваю на перине».
Михайле не терпелось похвалиться перед Петром, как ловко он с помощью машиниста Пьонтека оставил в дураках жандармов и как они сейчас гоняются за ним по улицам Кракова…
— Я бы дорого дал, чтобы своими глазами полюбоваться, — рассмеялся он шумно, на всю хату, — как Сигизмунд Скалка, подобно псу, гоняющемуся за собственным хвостом, завертелся, кусая себя с досады за локти!
— А ты не смейся, Михась, — не отрываясь от писания, предостерег его Петро. — От Скалки, как от собственной судьбы, далеко не уйдешь.
— У тебя что, Петро, есть личный опыт? — чуть игриво спросил Михайло.
— Есть. Как ни убегал, как ни изворачивался, все равно в его руки попал.
— Ну нет, Петрусь, я не из таких! Я уж раз дал себе зарок, что буду в Швейцарии, то что бы ни случилось, а я там буду. Где поездом, где пешком, а доберусь-таки.
— Я знаю, ты счастливей меня, — откладывая перо, тяжело вздохнул Петро. — А я, Михайло…
— А ты, — перебил его Щерба, — ты… Прости, пожалуйста, но таких, как ты, мягкотелых растяп я… я не жалею. Да над тобой, господин учитель, школьники смеяться будут. Надо же, выпустить из рук живого жандарма!..
— Погоди, Михайло! — Петро вскочил с кресла и нетерпеливо простер к нему руки: — Ведь я же выдал его русским. Как пленного.
— Ха-ха! Тоже наказал! Пустил щуку в воду! — Поднявшись с подушки, он сердито стукнул кулаком по мягкой спинке дивана. — Пристрелить надо было подлого пса, раз ты сумел его обезоружить!
— Пристрелить, — повторил Петро. Руки и плечи у него безвольно опустились. — Это легко сказать, Михайло. Стрелять в человека?.. — И он неодобрительно покачал головой.
— Ну, прекрасно, профессор. А он тебя пожалеет, когда после войны вернется из русского плена?
— Я над этим не думал.
— А надо, надо было подумать! Он первый не задумается повесить тебя, попадись ты ему на глаза.
— Ну что ж, — развел руками Петро, — на то божья воля.
— Что?! На то, говоришь, божья воля? От тебя ли это слышу? От человека, который когда-то мечтал повести за собой лемков, сбитых с толку москвофильством. Я, Петро, не позабыл твоих писем по возвращении из России. Вспоминаю, ты увлекался идеями социализма, ты горел желанием следовать за такими людьми, как Заболотный с киевского Подола, как Галина…
— О-хо-хо, Михайло. — Петро опустился на подлокотник кресла, правой рукой охватил его резную спинку. — Нет теперь того Петра-мечтателя. Нет больше. Растоптали его душу разные там Скалки. Потом Талергоф, потом окопы, шпангли… И то благо, Михайло, что во мне сохранилась еще капелька божьей веры, не то бы своими руками накинул себе на шею петлю. — Петро зябко запахнул полы пиджака и с укоризной в голосе закончил: — Знал бы ты, через какое пекло прошел твой Юркович, может, не стал бы так обрушиваться на него.
— Друг ты мой, так я весь вечер томлюсь в ожидании твоей одиссеи. Рассказывай, сделай одолжение. Скоро два года, как мы не виделись с тобой.
Петро прошелся по свободному от мебели четырехугольнику комнаты, остановился перед зеркалом на стене и, увидев в нем истощенного, с запавшими щеками, заметно облысевшего человека, мысленно сказал: «Таким ли ты был, когда гнал перед собой закованного австрийского жандарма?»
Отойдя от зеркала и заложив за спину руки (так он делал обычно, проводя уроки в классе), Петро начал свой рассказ с того теплого осеннего дня 1914 года, когда он сдал русским жандарма вместе с его карабином, а сам, переодетый в штатское, поспешил во Львов.
Юркович шел по узким старинным улицам, читал вывески магазинов и организаций, искал дом, где жил его добрый знакомый Володимир Гнатюк. Он с удовольствием, улыбаясь, провожал глазами роты и батальоны, что под музыку духовых оркестров отправлялись на запад. Настроение у Петра было приподнятое. Он бродил по улицам Львова и чувствовал себя счастливым, наконец-то он скинул ненавистный пепельно-зеленый мундир и теперь от всего сердца приветствует солдат в серых шинелях здесь, во Львове, и не должен сражаться против них где-то под Перемышлем.
— Господин офицер, — осмелился он в своем праздничном настроении обратиться к одному из офицеров Львовского гарнизона, что околачивался без дела, привлекая звяканьем шпор и золотом погон внимание барышень.
Капитан Козюшевский (а это был именно он), как раз собиравшийся приударить за одетой по последней моде молоденькой паненкой, неохотно остановился.
— Что вам угодно? — спросил он почему-то по-немецки.
— Пожалуйста, извините, господин офицер. — Подняв над головой шляпу, Петро учтиво поклонился. — То, простите меня, на Перемышль маршируют войска? Мне, господин офицер, было бы очень интересно узнать, когда будет взята эта крепость, а там и мой родной город Санок?
У Козюшевского вожделенно блеснули глаза. Наконец-то сбудется его. мечта подняться в чине и звании.
— Значит, вам интересно знать, когда наши войска намерены штурмовать крепость Перемышль, а затем Санок? Я вас правильно понял?
— Именно, так, господин офицер.
— Чудесно! — Козюшевский оглянулся, увидел военный патруль и подозвал его к себе. — Забрать немедля в комендатуру, — приказал он солдатам. И строго добавил: — Учтите, перед вами доподлинный австрийский шпион.
После допроса в комендатуре Петра, как «доподлинного австрийского шпиона», посадили в одиночную камеру военной тюрьмы. Петро привык вращаться среди людей, любил книги, и тягучие дни бездеятельности доводили его до отчаяния. Поначалу допросы с дикими, бессмысленными обвинениями в какой- то мере забавляли его, впоследствии же, когда допросы прекратились и о нем на долгие месяцы попросту все забыли, Петро почувствовал себя заживо похороненным в этом каменном холодном мешке.
Ближе к весне из Петрограда прибыл следователь «по особо важным делам». Оказалось, что подсудимый Петро Юркович не только шпион, но и политический преступник, австрийский агент машиниста Заболотного, того самого киевского социал-демократа, который поддерживает нелегальные связи с политэмигрантом Ульяновым.