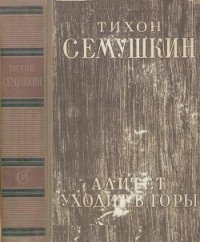Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
Недалеко от паровоза они остановились. Михайло делает вид, что не замечает машиниста Пьонтека, — а тот нет-нет да высунется из своего окошка, — не сводит глаз с Ванды. Легким прикосновением пальца подобрал прядку волос, выбившуюся из-под белой меховой шапочки.
— Милая моя, верь в мое счастье. Я из тех, кто ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
— Ой, хорошо бы, — сказала она грустно.
— Только бы у тебя, Вандуся, все было благополучно. Учить тебя предосторожности не приходится. Его слово, — Михайло кивнул в сторону машиниста, — для тебя закон. Берегите Суханю. Из него получится необыкновенный художник. Кончится война, пошлем его в Краковскую академию…
Раздался свисток кондуктора. Из паровозного оконца высунулся Пьонтек. Он не спешил с гудком отправления и дал его лишь в ту минуту, когда Щерба устремился к первому вагону.
Поезд тронулся, покатился на запад, постукивая на стыках рельсов. В последний раз мелькнула Михайлова вихрастая голова, черная шапка в поднятой руке, белая манжета сорочки, которую она, Ванда, вчера выгладила… Поезд еще не исчез за семафором, как весь окрестный мир, с холодным зимним солнцем, со снеговыми горами, которые Михайло умел так картинно живописать в своих повстанческих песнях, — все подернулось туманом перед Вандой от выступивших слез.
— День добрый, глубокоуважаемая пани Ванда, — пробудил ее из забытья чей-то незнакомый глухой голос.
Она повернула голову и вздрогнула: бок о бок с ней стоял грозный комендант уездной жандармерии, тот самый выродок, который отравил Михайле годы его сознательной жизни. Звякнув шпорами, он небрежным жестом, но не без галантности притронулся к козырьку каски холеными пальцами в золотых перстнях и как-то неопределенно усмехнулся.
— Сочувствую, пани Ванда. Разлука всегда ранит человеческое сердце. Тем более сейчас, в военное время.
Чувство страха пронизало леденящим холодом Ванду, парализовало ее волю. Под испытующим взглядом жандармских глаз она вдруг почувствовала себя слабой, беспомощной. Никогда она не соприкасалась с подобного сорта людьми, старалась их обходить. И надо же — в тягчайшую минуту разлуки столкнуться с одним из самых лютых представителей этого отродья.
— Честь имею отрекомендоваться. — Он снова коснулся горстью пальцев черной блестящей каски с распластанным на ней двуглавым орлом. — Майор Сигизмунд Скалка, прошу пани.
Впервые видит она верного австрийского пса так близко, Лицом к лицу. Виски с проседью, черные подкрученные заиндевелые усы, волевое мясистое лицо и холодные колючие зрачки были вполне под стать его внутреннему духовному естеству, о котором Ванда была достаточно хорошо наслышана. Скалка горделиво стоял перед ней и, казалось, наслаждался испугом женщины.
— Пани Ванда сегодня очень неприступна, — начал он, не дождавшись от нее ни одного слова, чуть-чуть склонив голову в ее сторону, с любезной усмешкой, игриво заглядывая ей в глаза. — Такой красотке, как пани Ванда, не мешало бы веселей глядеть на божий мир. Еще не все для вас лично пропало. Уверяю, моя пани…
Жандармское заигрывание вернуло Ванде чувство собственного достоинства. Холодок обуявшего ее было испуга отступил перед вспышкой гнева. Внезапная мысль ожгла ее: недоставало, чтобы сытое жандармское чудовище позволило себе волочиться за ней, женой революционера.
— Что вам, собственно, нужно? — спросила она по-украински и тотчас дрожащими пальцами приспустила с шапочки черную сетку вуали на разгоряченное от волнения лицо. — Что вам угодно, пан Скалка, спрашиваю?
— О, — протянул он с изумлением в голосе, — как неучтиво с вашей стороны, пани Ванда.
Сердце у нее бурно заколотилось, и краска бросилась в лицо.
— А вы, пан Скалка, были очень учтивы с теми, кого гнали на мученья в Талергоф? И отца моего в том числе?
— Извините, любезная пани. — Выпятив грудь, Скалка положил ладонь левой руки на эфес сверкающей офицерской сабли. — Ведь тот, в кого пани Ванда столь безумно влюбилась, и сейчас на воле. Кажется, так?
Она гордо вскинула голову:
— На свободе он не по вашей воле, а потому, пан Скалка, что у вас руки коротки на таких людей.
Он прикусил нижнюю губу, грозно сощурил нахмуренные глаза.
— Коротки? Так полагаете, пани Ванда?
— Я уверена! Паспорт Щербы…
— Его паспорт, — перебил ее Скалка, пристукнув саблей о каменный перрон, — этот самый его паспорт годится разве… — Скалка хотел было сказать что-то гадкое, но предпочел досадить ей иначе: — Я раскрою пани свой секрет. Не успеет пани Ванда вернуться домой, как ее милый вместе со своим паспортом окажется в жандармских наручниках.
В глазах у Ванды потемнело, оборвалось сердце. А куда девались те двое с, блестящими штыками на карабинах? Поискала их глазами. Нет их, и след простыл. Значит, Скалка послал их вдогонку за Михайлой. Что же дальше? Не трудно предвидеть. Погонят закованного по этапу, как преступника, до Санока, а там бросят за решетку, упрячут подальше от людей, от солнца. Возможно, пытать будут!.. Еще пошлют на виселицу!
Скалка неотступно следил, как менялось лицо Ванды под сеткой вуали. Наглядно убеждался, какой силой воздействия обладает одно-единственное его слово. Оно властно карать, посылать на муки и на виселицу, но властно и миловать во имя августейшего. От гордой осанки этой прекрасной украинки и следа не осталось. Склонив голову на грудь, она стоит покорно перед ним, готовая принять его ласку…
— Судьба его, однако, — сказал Скалка, — судьба Щербы, моя милая пани, в этих нежнейших ручках, — показал он глазами на ее сильные, привычные к работе руки, нервно скользившие по цепочке ридикюля. — Д-да, прошу не удивляться. Все зависит от пани Ванды.
Она содрогнулась, подняла голову, пристально поглядела на него:
— Как это понимать, пан Скалка?
Он наклонился к ней, ответил с подчеркнутой учтивостью:
— Об этом я, пани Ванда, готов сказать в одиннадцать ночи. Пунктуально, в одиннадцать. Прошу не запирать. Прибуду собственной персоной. До свиданья, пани. — Взял под козырек, звякнул шпорами и, подхватив эфес сабли под левую руку, уверенно понес свое откормленное тело к фаэтону, ожидавшему его за вокзалом.
Вот и все, Ванда. Тебе понятно теперь, какой ценой ты можешь купить свободу своему мужу? Пунктуально в одиннадцать ночи изволь принимать гостя. Прибудет собственной персоной…
Вернувшись домой, она долго шарила по ящикам в поисках охотничьего ножа. Нашла. И замахнулась на невидимого врага. О, Ванда не чета ее изнеженной сестрице Стефке. У Ванды крепкая рука, она легко переплывает Сан. Ванда подошла к постели, положила в голову под матрац нож.
«Милости просим, пан Сигизмунд», — мысленно сказала она непрошеному гостю.
Петро Юркович, сидя за письменным столом в своей довоенной квартире, писал при свете керосиновой лампы под зеленым абажуром учительнице Текле Лисовской в Талергоф.
«…Не знаю, дойдет ли письмо до вас, но мой друг Михайло Щерба, который с дороги отдыхает у меня, уверяет, что письмо это наверняка попадет вам в руки и вы узнаете, что я покуда жив, и, хотя здоровье у меня сдало, я все-таки не уступил той госпоже с острой косой, которая неотступно выслеживала меня это время. Пишу из Синявы, куда прибыл с позиций после ранения…»
Петро задумался. Отвернувшись на миг от письма, он глазами встретился с милым лицом женщины под широкими полями черной шляпы. На обратной стороне фотокарточки прочел: «Текля Лисовская». И ниже дата: «1915».
Он продолжал писать:
«Пока рана будет затягиваться, я займусь школой. Она стоит пустая, с выбитыми окнами. В селе следы войны на каждом шагу. Самые тяжкие опустошения — потери людей. Немало моих старших учеников уже не вернутся домой. Возвращаются калеки. Крестьяне старшего поколения застряли в Талергофе, они, бедняги, расплачиваются за свое доверие к депутату Маркову. Марков военным судом в Вене был приговорен к смертной казни, но уцелел благодаря заступничеству дипломатов и особенно графа Бобринского. За простых мужиков, слепо поверивших в Маркова, вступиться некому, это, в конце концов, уже и не требуется; не поддается даже учету, сколько крестьянских голов приголубила петля. О, сколько их сгнило в братской могиле Талергофа!..»