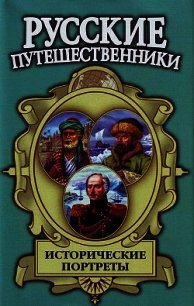Фердинанд Врангель. След на земле - Кудря Аркадий Иванович (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Я ужасно устал от всего этого. Иногда был близок к сумасшествию. А другой раз, находясь в здравом рассудке, намеренно разыгрывал его, чтоб от меня отвязались. Однажды, устав от всего, от вопросов о причастности Сперанского, я решил, что сделаю письменное заявление и открыто признаю благородство того дела, в коем участвовал. Я сел писать и назвал это дело лучшим делом в моей жизни, заявил, что не только член тайного общества, но и член самый деятельный. И это общество не было крамольным, но политическим. И оно состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться. Ибо никто не действовал из своекорыстия, но в самых высоких целях, во имя прав народа. И это не был мятеж, но опыт политической революции. Наша беда была в малочисленности, но то, что глас свободы прозвучал, хотя и ненадолго, не должно забыться.
Чуть позднее я взял на себя даже больше, чем заявил в письме. Не знаю, что толкнуло меня на это, но я приписал себе намерения, коих никогда не имел. Заявил, что из честолюбия хотел стать регентом малолетнего Александра II и, устранив возможных конкурентов, стать полноправным правителем России. Может быть, с моей стороны тут сказался приступ безумия, но тогда я думал об одном: надо любым образом отвести подозрения от Сперанского. Мне все равно пропадать, а он пусть уцелеет. Да и в чем была его вина, кроме того, что он, по моей же инициативе, иногда вел со мной острые политические беседы. Я не мог потерпеть, чтобы он пострадал из-за меня.
Но последнее признание, скорее это был самооговор, обошлось мне дорого. Не сомневаюсь, Николай увидел во мне личного врага, посягавшего на императорскую власть. Думаю, после того меня и решили надолго запрятать в одиночную камеру, окружить имя узника полным молчанием, чтобы никто не знал, где я и что со мной.
Много позднее, в Сибири, куда отправился на поселение, один из наших, тоже ссыльных, располагавший сведениями, как нас судили, сказал мне, что Сперанский спасти меня не пытался. Напротив, внес мое имя в число заговорщиков, подлежащих смертной казни. Думаю, он все же боялся, что когда-нибудь я могу проболтаться и выдать его. Но большинство других членов суда решило, что такое наказание для меня будет чрезмерным... Да ладно, — Батеньков прощающе взмахнул рукой, — я его не виню. Думаю, он не раз каялся потом, что хотел мне зла...»
Как бывает с долго молчавшими и таившими свою боль при себе, Батеньков, вероятно, испытывал потребность наконец-то выговориться, излить наболевшее перед человеком, коего считал давним другом. Тем более что он, Врангель, был хорошо знаком и со Сперанским в его сибирский, генерал-губернаторский, период жизни и понимал, как близки были в то время Батеньков и Сперанский.
«А сейчас что? Сибирская ссылка завершилась? И где вы, Гавриил Степанович, жили в Сибири?» — потрясенный услышанным, он тогда перешел почти на шепот. «Я жил в Томске, — склонив голову, продолжал Батеньков. — По освобождении из крепости мне, по высочайшему как говорят, повелению было предложено самому выбрать место сибирской ссылки. Полагаю, спустя двадцать лет Николай все ж испытал какую-то жалость к моей судьбе. Только тем и могу объяснить свободу выбора. Я предпочел город моей юности, Томск. Когда-то, давным-давно, у меня была там невеста, оставались и друзья. Пока сидел в одиночке, так изменился, что друзья в Томске с трудом могли меня признать. Былая невеста, Полина, давно считала меня мертвым и каждый год служила панихиду. Она давно была замужем, у нее были дети, и я привязался к ним, не требуя для себя ничего большего, как возможности иногда погостить у них. Друзья помогли приобрести участок под городом. Поставил там избу, крытую по-малороссийски соломой, разбил огород и стал жить-поживать одиноким хуторянином. Любил работать в садике и на огороде, ухаживать за скотиной — коровой и курами. Надо было просидеть двадцать лет в каземате, чтобы понять какое это благо жизнь, возможность соприкасаться со всем, что живет: с землей, деревьями, птицами... Этого вполне достаточно, чтобы любить жизнь. Много читал, газеты, книги. Полюбил купание в холодной воде реки Томи, вплоть до заморозков. В городе распространилась весть, что я, так сказать, воскрес из мертвых и опять появился здесь. Стали приглашать в компании, на разные общественные развлечения, и даже большие тузы. Но я никуда не ходил: зачем ссыльному обременять своим присутствием благородные собрания? А вдруг у них будут от этого неприятности? Мне этого и не надо было. Уже привык к уединению. Большое общество меня стесняло. И одевался очень просто. Парадного костюма не имел. С меня было достаточно, что принимали меня в семье бывшей невесты, Полины Николаевны, и еще в одной семье, весьма ко мне расположенной. А если кто сам навещал меня на хуторе „Соломенный“, так тех я всегда принимал по возможности хлебосольно и был благодарен им, что не забывают. Из таких, приятных мне людей у меня, пожалуй, чаще других бывал граф Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Сибири. По дороге из Иркутска в Петербург да и на обратном пути обычно заезжал ко мне на хутор, пили чай, беседовали. Иногда говорили и о былом, когда до переезда в Петербург я жил в Сибири. Случалось, вспоминали и сибирские реформы Сперанского и мое участие в них. О Михаиле Михайловиче с хулой я никогда не отзывался, поминал о нем лишь хорошее, то, что было мне дорого. Хотя уже знал через ссыльных, о том, как он вел себя в Верховном суде, когда решалась наша судьба.
Теперь вот домик купил в Калуге. Хочу там пожить. Попал, как и другие, под амнистию. Возвращены права потомственного дворянина. Честно говоря, не знаю, что буду с этими правами делать. Но все ж приятно и это, на старости-то лет».
«А семьей, Гавриил Степанович, так и не обзавелись?» — «Нет, и не обзавелся, да и не тянет. И детишек поздно заводить. Как-нибудь бобылем доживу. Да и много ли осталось жить-то?»
Такая вот удивительная получилась встреча, поразительная по откровенности исповедь. Как далеко разошлись их судьбы после рокового декабрьского дня двадцать пятого года! Уже не задумываясь о том, правы или не правы были Батеньков и его сподвижники (в глубине души по-прежнему полагал, что были не правы), испытывал лишь глубочайшее сострадание к нему, уважение к мужественной его позиции во время следствия, к желанию оградить от судилища старшего наставника, которому многим был обязан. И в этом Батеньков полностью раскрыл себя как человека высокой чести и достоинства.
Когда прощались, спросил: «Может, я чем-то могу помочь вам, Гавриил Степанович, в чем-то посодействовать? Ради Бога, не стесняйтесь. Буду лишь рад быть вам полезным». — «Спасибо, но я ни в чем, Фердинанд Петрович, не нуждаюсь. Потребности мои ныне весьма скромные, и я вполне могу удовлетворить их собственными силами. А что приняли меня и выслушали, за это благодарен. Поверьте, со мной такое бывает нечасто. Вы, кажется, первый, с кем говорил так открыто. Иногда этот груз душевный становится слишком тяжел. Захотелось хоть чуть-чуть переложить и на другого. Теперь легче. Надеюсь, поймете и оправдаете меня. Мне важно было, чтобы кто-то знал из близких. Проезжал через Петербург и подумал, почему бы не зайти. Может, как-нибудь забреду и еще, но не знаю. Иногда и одной встречи достаточно».
Больше Батеньков к нему не заходил.
Дальше идти не стоит. Пора поворачивать назад. Мимо проехала повозка с хуторянами, двое сидевших в ней мужчин почтительно раскланялись, и Врангель тоже ответил им легким поклоном. Право, жаль, думал он, что все деревья в парке: липы, дубы, березы — такие ровные, настоящих богатырей нет, как нет и уникумов растительного мира. Из тех, что видел в своих странствиях, более всего запомнились три дерева. Совсем махонькая, изогнутая студеными ветрами лиственница встретилась далеко на севере, в Якутии, на границе с безлесной тундрой, как разведчик, ушедший вперед, чтобы на себе первом испытать лютость ветров и морозов. И тогда, увидев этого отчаянного смельчака, он подивился его жизненной силе.