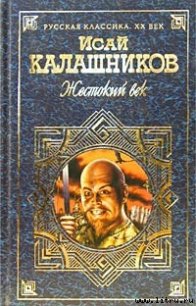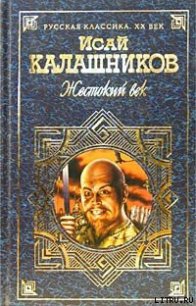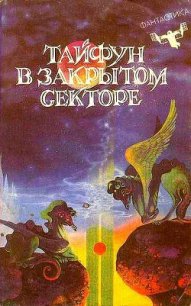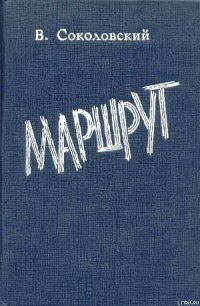Разрыв-трава - Калашников Исай Калистратович (читать полные книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
В доме на кровати, с мокрым полотенцем на голове, лежала тетка Лукерья. Глаза ее были запухшие, красные.
— Лежишь, старая?
— Голова болит, Лиферушка, моченьки нету.
— Ну лежи, лежи… А ты, Устюшка, садись. Лифер Иваныч остановился посередь избы все такой же сутулый, с безвольно опущенными руками; постоял так, встрепенулся, снял со стены большую застекленную рамку с фотографиями, рукавом стер пыль со стекла. Вот он, наш Никитушка.
В черкеске с газырями, с саблей на боку, в лихо сбитой набок шапке-кубанке Никита гарцевал на чудо-жеребце. И черкеска, и сабля, и кубанка, и чудо-жеребец все было нарисовано. Года три назад Устинья ездила с Корнюхой в город и видела возле базара такого всадника на фанерном листе, только вместо лица дырка. Кому надо сняться, высовывался в эту дырку щелк готово, вези карточку домой. Она тогда смеха ради очень хотела сняться так же вот, как снялся Никита, но Корнюха не разрешил: не любил он таких шуток.
— Какую вербочку срубили, а… Я, старый пень, топчу землю, для чего так, господи?
Две слезы медленно сползли по щекам Лифера Ивановича, повисли на усах, он слизнул их кончиком языка, глянул на Устинью, зашептал:
— А может, весть не доподлинная? А?
И с такой надеждой, с таким ожиданием смотрел он на Устинью, точно от нее зависела судьба сына. Не выдержав его взгляда, она подошла к стене, повесила рамку с фотографиями на прежнее место. Ясно, будто это было вчера, ей представился праздник урожая, веселые переборы гармошки, пальцы Никиты на новеньких блестящих пуговицах ладов широкие короткие пальцы с въевшимся в кожу мазутом, и тоскливая жалость к этому парню мягко, неслышно вошла в душу.
— Ты бы, Лифер, Устюху чайком попоил… — охая, сказала тетка Лукерья.
— Не хочу я. Лифер Иванович, тебе лошадь понадобится наверно, или еще что, так скажи.
На бригадном дворе никого не было. Конюх, дед Аким, только что пригнал лошадей с водопоя, закрывал ворота. Он не посторонился, не пропустил Устиныо, захлопнул ворота перед её носом и пошел, что-то бурча и отплевываясь: старик никак не хотел признавать ее за начальство и всячески старался показать ей это. Раньше она лишь посмеивалась над его выходками, но сейчас чуть не заплакала. Старый ты, сивый дурак, нашел время выкобениваться…
В хомутовской все стены были увешаны сбруей: остро пахло дубленой кожей и конским потом. За стеной в столярке постукивал топором Игнат. Устинья села на скамейку у окна. Из ума не шел Никита. Всколыхнулась и тревога за Корнюху. Перед войной жизнь у них мало ладилась, и все равно, как подумаешь, что с ним это может случиться, не по себе делается.
Из писем она знала, что пока он не на фронте. Пока… Но как знать, что будет завтра?
В дверь боком протиснулся дед Аким, повесил на кол уздечку, ворчливо спросил:
— Когда дворы-то почистишь, бригадерша?
— Почистим… — рассеянно отозвалась она.
— Одни твои посулы. Никакого порядку у нас нет. Как ты пришла, так все пошло криво-косо.
— Будет тебе зудеть…
— Пропадем с таким начальством. Баба на должности — срамота! — Старик сдирал с бороды и усов льдинки, с остервенением бросал их на пол. — Где твои работнички? Скоро никто не придет, когда такое дело…
Устинья равнодушно выслушивала его попреки. Старик не понимает, что виной всех неурядиц не она, а война. По доброй воле приходят работать не больше пяти-шести баб, остальные хлеб добывают. Чуть не половина урожая осталась под снегом. Намолоченное зерно ушло на поставки государству, засыпано на семена; трудодни были, можно сказать, не оплачены. И люди теперь вместо того, чтобы работать буксырили(Буксырить — невесть откуда взялось это слово и утвердилось на все годы войны; оно означало брать с поля то, что осталось после уборки: собирать колосья, высевать зерно из земли и снега на токах).
Утром одни по одному тянулись на поля по тропкам, пробитым в сугробах, разгребали снег, срезали колосья, тут же, кто как мог, обмолачивали. Еремей Саввич вечерами перехватывал буксырщнков. Спрячется где-нибудь в логотипе на верховой лошади, выждет, когда поравняется с ним цепочка баб и ребятишек, с гиканьем, свистом ну чистый соловей-разбойник! — налетит на них, сорвет с одной, много с двух, баб котомки, остальные зерно в снег и кто куда, как сухой горох по столу. Уедет председатель, бабы возвращаются, сгребают зерно, пригоршню-другую отделяют пострадавшим от налета… А на другой день то же самое.
Еремей Саввич записывал фамилии буксырщиков, грозил самыми жесткими карами, заставлял ездить на перехваты и бригадиров, и актив, но все это не помогало. Людям надо было чем-то питаться… Сама Устинья пока не горевала. Запасливый Корнюха оставил хлеба на год хватит. А другие? Ей стыдно было отбирать набуксыренное зерно, с другой стороны, если смириться с этим, колхозу не поздоровится. Как ни делай плохо.
Первой на бригадный двор пришла Татьянка. Запыхалась.
Должно, бежала. Она редко ходит спокойным шагом, все торопится, всегда ей времени не хватает, да и то сказать одна. Вот ей бы надо буксырить, но боится, из-за Максима чувствует себя в колхозе падчерицей, знает, что кого-кого, а ее Еремей Саввич не пожалеет, нужно будет и под суд отдаст.
— Отруби на свиноферму повезу, — сказала Татьяна и стала разбирать сбрую.
Она была в толстой шали, казалась уродливо-головастой и еще меньше ростом, чем была на самом деле.
Пришла Феня Белозерова, за ней Прасковья Носкова. Эти тоже изо дня в день работают.
Заговорили о Никите. Глуховатый дед Аким склонил голову, выставил ухо с пучком седых волос в раковине. Он почему-то не поверил бабам.
— Брешете, вертихвостки! — Подтянул опояску и дробной старческой рысью засеменил по улице к Лиферу Ивановичу.
Распределив работу, Устинья долго сидела одна в хомутовской. Надо было идти в контору, но она медлила, тянула время. Разговор с Еремеем Саввичем будет тяжелый.
За стеной стучал и стучал Игнат. Звук доносился глухо, как из-под земли. Пригрело солнце и в окно хомутовской заглянуло; под полом зашебаршили мыши. Она вышла на улицу, толкнула дверь в столярку. В ней было тесно от досок, чурок, березовых болванок; жарко топилась печь, из трещины в трубе выбивался черный, как деготь, смолевый дымок. Игнат в распахнутой тужурке сидел на верстаке, выдалбливал дыры в нахлестке для саней. Она открыла дверцу печки, лицо охватило жаром, бросила на груду алых углей куделю стружек, присела на чурбак.
— Слышал про Никиту?
— Слышал.
— Такой молодой… Кто бы мог подумать!
— Война… — Игнат с ожесточением ударил киянкой по долоту, — слепая, как огонь в лесу, валит под корень и кедр, и молодую сосну.
Замолчали. Игнат перевернул нахлестку, вытряхнул из дыры мелкую крошку древесины, карандашом наметил место второго отверстия.
— Я кину бригадирство, Игнат. Не выходит у меня. Не могу больше. Если уж по правде говорить, то я, будь на месте наших баб, тоже буксырить бегала бы. Голодуха на пороге.
— Потому-то и нельзя тебе бросать работу… Ты, я знаю, все по справедливости будешь делать. А справедливость сейчас не меньше хлеба нужна.
— Да не могу я делать по справедливости! Кто добровольно впрягся, на тех еду. Вот и все.
— Я тут кумекал… По-доброму-то, Устюха, надо бы хлеб, какой снегом задавлен, разделить людям добывайте, кормитесь. И уж говорил про это Еремею Саввичу. Но он и слышать не хочет. Незаконное, мол, дело. Весной, мол, соберем хлеб в закрома. А я думаю, к весне мало что останется.
— Что останется, птицы поклюют.
— Ну, конечно… Замыслил я другое. Свой порядок надо установить. Чтобы и работа на месте не стояла, и все с хлебом были.
— Ну как, как это сделаешь? — с нетерпением спросила она.
— А так. Проработал в неделе пять дней в бригаде, остальные два дня — буксырь. Не отработал пеняй на себя.
— Но Еремей Саввич…
— Тут уж обойти его надо. В случае чего, вся вина на тебя ляжет, Устюха. Но ты сдюжишь. Вот почему и говорю тебе: оставайся.