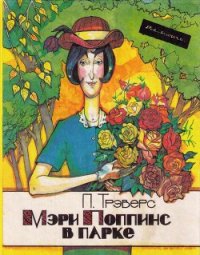Небесное пламя (Божественное пламя) - Рено Мэри (читать полностью бесплатно хорошие книги txt) 📗
Феникс повернул голову, посмотреть на него. Александр распрямился, вытирая полотенцем замасленные руки. Медленно произнес:
— Да, сыновние чувства. Можно и так сказать.
Феникс, как всегда, почувствовал, что надо уходить от скользкой темы:
— А довелось повоевать на западе, Ахилл?
— Один раз. У них там межплеменная заваруха началась. Не может же гость сидеть в стороне, верно? Мы победили.
Он забросил назад намокшие от пара волосы и резко швырнул полотенце в угол. Феникс только сейчас заметил, как он осунулся за это время, и подумал: «Здорово ему досталось… Он научился гордиться тем, что вытерпел от Леонида, — это ему выдержку и выносливость дало, — я в Пелле слушал, как он хвастается, и улыбался… Но этими месяцами он хвастаться не станет; а если кто улыбнется — тому не позавидуешь».
И словно он сказал это вслух, Александр вдруг разъярился:
— Почему отец требовал, чтобы я просил прощения у него?!
— Ну, послушай, он же привык торговаться! А каждый торг с того и начинается, что лишка запрашивают… В конце концов, он же не стал настаивать!
Феникс скинул с кушетки короткие морщинистые ноги. Рядом окно, с ласточкиным гнездом в верхнем углу. На подоконнике, заляпанном птичьим пометом, лежал гребень слоновой кости с обломанными зубьями, в котором застряло несколько рыжеватых волосков из бороды царя Александроса. Расчесываясь, закрыв лицо, Феникс изучал своего питомца.
Он уже почувствовал, что может потерпеть неудачу. Да, даже он. Он уже увидел, что бывают такие реки, через которые — если паводок пойдет — назад дороги нет. Бессонными ночами в той бандитской стране — кем он видел себя? Каким-нибудь наемником-стратегом у какого-нибудь сатрапа, воюющим за Великого Царя?.. Или не у сатрапа, а у какого-нибудь третьеразрядного сицилийского тирана?.. А может, представлял себя блуждающей кометой вроде Алкивиада: девять дней чуда раз в несколько лет, а потом исчезает в темноте… Наверняка был момент, когда он об этом задумался. Он любит показывать боевые шрамы; но это шрам будет прятать, словно рабское клеймо. Даже от меня прячет.
— Ну, ладно! Дело улажено, сотри все старые метки и начни с чистой таблички. Ты вспомни, что сказал Агамемнон Ахиллу, когда они помирились: «Что мог я сделать? Богиня могучая всё совершила, Дщерь громовержца, Обида, которая всех ослепляет.» Твой отец именно так себя и чувствовал. Я это по лицу его видел.
— Я могу тебе дать расческу почище этой. — Александр отобрал у старика гребень, положил его назад под гнездо, вытер пальцы и добавил: — Ну да. Что Ахилл ответил, мы тоже знаем:
"Гектор и Трои сыны веселятся о том, а данаи
Долго, я думаю, будут раздор наш погибельный помнить.
Но совершившееся прежде оставим в прискорбии нашем,
Гордое сердце в груди укротим, как велит неизбежность".
Он взял свежий хитон Феникса, измятый в переметной суме; аккуратно накинул ему через голову, как хорошо обученный паж, и подал пояс для меча.
— Милый мой мальчик, ты всегда был так добр ко мне…
Феникс возился с пряжкой, опустив голову. Этими словами он собирался начать свои увещевания, но всё остальное вдруг исчезло из головы — ничего больше он не сказал.
Никаноровы Кони снова стали Александровым эскадроном.
Переговоры перед тем тянулись довольно долго; немало курьеров проехало по суровым эпирским тропам от Демарата к царю и назад. Главная сущность сделки, достигнутой после многих манёвров, состояла в том, что ни одна из сторон не могла заявить о своей безусловной победе. Когда, наконец, отец с сыном встретились — оба чувствовали, что всё уже сказано, — за них и без них, — и оба позволили себе обойтись без слов. Каждый смотрел на другого с любопытством, обидой, подозрением, сожалением — и со слабой надеждой, которую оба слишком хорошо сумели спрятать.
Под благодушным взглядом Демарата обменялись они символическим поцелуем примирения… Александр подвел мать; Филипп поцеловал и ее, отметив про себя, что маска гордости и злобы врезалась в ее лицо еще глубже прежнего, и с удивлением вспомнив на момент свою юношескую страсть… И жизнь пошла дальше.
Большинству при дворе до сих пор удавалось сохранять нейтралитет. Интриговали и ссорились лишь небольшие группы сторонников Аттала, агентов Олимпии или друзей Александра. Но живое присутствие изгнанников подействовало, как кислый сок в молоке. Началось расслоение.
Молодежь знала, что он превзошел тех, кто старше; а когда завистливое старьё попыталось его подмять — он восстал против этого и выиграл. В каждом из них свой собственный бунт только тлел — а он позволил своему вспыхнуть, и теперь стал их героем-мучеником. Даже дело Олимпии они приняли как своё, раз оно было делом Александра. Видеть, как позорят твою мать, а отец твой — старик, уже за сорок! — выставляет себя на посмешище с пятнадцатилетней девчонкой… Да как можно снести такое!.. Теперь при каждой встрече они приветствовали его с вызывающей сердечностью, и он всегда отвечал соответственно.
Лицо его осунулось. Он давно уже выглядел старше своих лет; но замкнутый, отрешенный взгляд — такого раньше не было… А их приветствия возвращали ему прежнюю теплую улыбку; и это было для них наградой.
К Гефестиону, Птолемею, Гарпалу и остальным его товарищам по изгнанию молодежь относилась с трепетным почтением. Они не оставили друга, и теперь их рассказы превращались в легенды. А рассказывали только о победах: тот леопард, молниеносные переходы к границам, победа в той племенной войне… Не только любовь, но и гордость свою они связали с ним; если бы можно было, они рады были бы изменить даже его собственные воспоминания. И его благодарности, пусть и невысказанной вслух, было им достаточно. Скоро не только остальной молодежи, но и себе самим они стали казаться признанными лидерами — и начали это проявлять, иногда весьма неосторожно.
Собиралась его партия. Из тех, кто любил его, или сражался вместе с ним; из тех, кому, раненому или полузамерзшему во Фракии, он уступил свое место у костра или дал напиться из своей чаши; из тех, кто помнил, как едва не струсил — но тут он подошел и ободрил; из тех, кто рассказывал ему свои истории в караулке, когда он еще ребенком был… А их поддерживали и другие: кто помнил беззаконные времена и хотел иметь сильного наследника на троне — или ненавидел его врагов. Тем временем, Атталиды приобретали всё больше власти и гордыни, день ото дня. Вдовец Пармений женился недавно на дочери Аттала, и шафером был сам царь.
В первый же раз как Александр встретил Павсания без свидетелей, он поблагодарил его за гостеприимство. Губы Павсания с трудом шевельнулись, словно хотели улыбнуться в ответ, но забыли как это делается.
— Ну что ты, Александр, это была честь для нас… Я бы сделал и больше…
На момент глаза их встретились. Павсаний смотрел изучающе, Александр вопросительно; но этого человека всегда было трудно понять.
Эвридике построили роскошный новый дом на склоне, поблизости от Дворца. Чтобы расчистить место для него, пришлось вырубить сосны; а статую Диониса отдали царице Олимпии. Тот сосновый лес прежде не был священным; Диониса она там поставила по собственному капризу, с которым молва связывала кой-какие скандалы.
Гефестион появился слишком поздно, чтобы много знать обо всех этих вещах, но — как и всякий другой — он знал, что законность наследника зависит от того, насколько чтят его мать. Конечно, он должен её защищать, у него тут и выбора нет; но к чему такая страсть, такая враждебность к отцу, такая слепота к собственной пользе?.. Да, настоящие друзья делят всё. Кроме того что было до их встречи.
Что у неё есть своя фракция — это все знали. Её покои походили на штаб-квартиру оппозиции в изгнании в каком-нибудь из южных государств. Когда Александр заходил к ней — Гефестион бесился от ярости. Знает он, что она там затевает?.. Даже он может не знать. Но ведь если начнётся заваруха какая — царь будет думать, что знал!