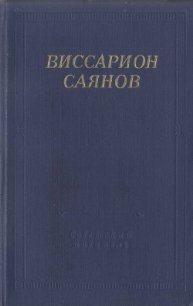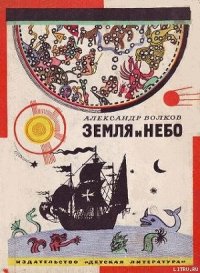Небо и земля - Саянов Виссарион Михайлович (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно .txt) 📗
— Наконец-то, — сказал Тентенников. — А я думал, что с тобой, Быков, и встретиться больше не доведется.
Вскоре вернулась Наташа.
Быков глядел на неё и не узнавал: так изменилась она после примирения с Глебом. Радостно блестели глаза, и улыбка была спокойная, тихая, похожая на добрую улыбку Лены.
— А я словно знала, — весело сказала она, протягивая руку мужу и ласково глядя на Тентенникова, — словно я знала, что надо гостей ждать: варенья к чаю купила. И знаете какого? Черносмородинового. Это на юге-то, — московскую банку, отличную… Теперь посидим за чаем. Я сейчас пойду на кухню, сразу спроворю.
— Хороша у тебя жена, Глеб Иванович, а ты чудил, — сказал Тентенников, провожая Наташу ласковым взглядом.
— И ты не миловал…
— По глупости, дружище, по глупости. Золотой она человек, да и только. Обо мне, как о брате, заботится. По вечерам приходит поговорить. И что бы ты думал? Что ни слово — то о тебе: и умный-то у меня Глеб и хороший…
— Не хвали гречневую кашу, — смутился Глеб, — она и сама себя хвалит…
Самовар шумел так же весело, как на Подьяческой или на Якиманке, и чай показался очень вкусным. Наташа придвинулась к Глебу, весело сказала:
— Вот и научились мы радоваться малому. Раньше, в Питере или Москве, что могло быть скучнее самовара? А нынче-то, поглядите-ка, мы и самовару рады, и чаю, и дешевенькому варенью: о северном лесе вспомнишь, и о смородине простой, и о том, как жили.
Быкова поразило, что говорить она стала совсем по-иному; в языке её появилось множество речений, совсем незнакомых ей прежде, — из разных говоров, которые слышала от больных и раненых солдат, выбирала она простые, грубоватые, но чистые, чем-нибудь особенно ей полюбившиеся слова, и речь её стала сердечней.
Особенно нравилось Быкову её ярославское присловье: чуть не после каждого слова говорила она ему, или Глебу, или Тентенникову: «родненький».
— Не вечно же будет война, — промолвил Тентенников. — Интересно, что тогда делать будем, когда обратно в города наши вернемся после войны? Помнишь, я тебе говорил, что мечтаю воздушный цирк устроить. Найду приятеля хорошего, и будем с ним из города в город разъезжать. Петлить буду, высший пилотаж показывать, публику катать. Стану вольным казаком, а там — будь что будет. Сами посудите, на заводе перед хозяином я человек подневольный. А тут — никаких хозяев. Антрепренеришку сыщу подходящего, не такого жулика, как Пылаев, и покачу по России. На хлеб да на воду хватит — и ладно, больше мне и не надобно…
— Не о том ты мечтал когда-то, — отозвался Быков. — Думал первым летчиком на Руси стать, а теперь и придумать что-нибудь повеселее ленишься.
— Укатали сивку крутые горки, значит, и мечты стали другими. Еще и войну переживем ли?
— А я конструктором буду, — сказал Глеб. — Я отнес профессору Жуковскому чемодан с чертежами покойного брата, вот и попробую после войны в них разобраться. У меня, знаешь, какая мечта? В воздух вагоны пустить. Тяжелое самолетостроение — самое главное в авиации. Лет сорок пройдет — воздушные поезда будут по небу ходить.
— Ну, уж ежели ты конструктором на заводе станешь, — сказал Быков, — то я к тебе летчиком-испытателем пойду, новые машины испытывать. И Тентенникова балаганить не отпущу: вместе на тебя работать будем…
— Не думаю я, что скоро война кончится, — сказала Наташа, оглядывая этих рослых, сильных людей и с болью думая о том, какие испытания им сулят ближайшие месяцы и годы. — Солдаты говорили недавно, будто еще сорок лет воевать придется…
Летчики переглянулись. Быков молчал, но Глеб и Тентенников взволнованно заговорили.
— Ну, уж тогда нам до конца войны не дотянуть: век летчика не такой длинный, — сказал Глеб.
— Зато у нас жизнь богатая, — отозвался Тентенников. — Вот, посуди сам, чем бы мы были, если бы не взялись за руль. Я наверно боролся бы в цирке, — смолоду пробовал, даже медали заработал… Или гонщиком остался бы на мотоцикле. Быков до конца дней телеграфистом пробыл бы, а ты, поди, в папашу пошел бы: с крысами да сусликами воевал бы…
— Ты прав: великое дело руль. Нас так многие и называют: человек у руля…
— А испытали-то сколько, — угрюмо продолжал Тентенников. — Ты сказ про левшу слыхал?
— Лескова, писателя?
— Не знаю, может быть, и писателем сочинен, — мне про левшу-кузнеца в Туле мастеровые рассказывали. Будто в Англию кузнец приехал и сумел там блоху подковать. Так вот и мы, когда за границей объявились в самые-самые первые дни успехов авиации, сразу показали им, на что русский летчик способен. О нас-то с Петром, помнишь, в газетах писали: русские смельчаки господин «Ай-да-да» и господин «Карашо».
— Как же не помнить, конечно, помню. Да возьми хоть и нашего Ефимова, — он на самом первом в истории авиационном состязании в Ницце прилетел впереди иностранцев и все призы взял.
Долго они сидели в тот вечер, а когда пришла пора расставаться, Тентенников вдруг забеспокоился:
— Проводите меня в палату. Страшно одному по темному коридору идти, — усмехнулся он.
Быков понял, что хочет Тентенников поговорить о чем то наедине, без Наташи, и поднялся со стула. Они вышли в коридор, и Тентенников тихо сказал:
— Там-то я говорить не хотел, при Наташе, незачем её нашими бедами волновать…
— Что ж, рассказывай без неё, — сказал Глеб. — Мы к огорчительным разговорам люди привычные.
— О Пылаеве я кое-что новое узнал, — вздохнув, сказал Тентенников.
— Что и говорить о нем, — отозвался Быков, — уж мы-то трое знаем Пылаева, как облупленного.
— Всех его художеств, пожалуй, и сам сатана не знает, если даже он сатане душу продал. Теперь с летучим отрядом распростился, живет постоянно у Васильева, не тужит, ни о чем не заботится. И с тех пор как у нас живет, началась такая сумятица, что не приведи господи… Вспомни полет, которым тогда хвастался Васильев. Он Пылаева в тылу врага высадил. Нам Васильев это дело доверить боялся, но заметь, тогда они с Пылаевым вдвоем вылетели, а вернулся Васильев один. Потерял он его по дороге, что ли? Может быть, тот до цели на аэроплане долетел и тотчас назад — пешедралом. Я вам и прежде говорил: вдруг он на обоих работает? И на русских и на немцев?
— Вполне возможно, — ответил Быков. — Сам понимаешь, сколько расплодилось теперь шпионов, и при дворе они, и в ставке, и при нашем маленьком отряде тоже могут оказаться.
— Ты Наташе скажи, что очень я ей благодарен, — сказал Тентенников, прощаясь с Глебом. — Самому-то, знаешь ли, неудобно. А она ведь за мной, как мать родная, ходит…
Наташа улыбнулась, когда Глеб передал ей слова Тентенникова, и задумчиво сказала:
— Ну, не так же я еще стара. В матери Тентенникову еще не гожусь, пожалуй. А ты береги себя, Глеб. И приезжай поскорей.
Дорога бежала под уклон, с холма на холм, река яростно гудела и выла, пробиваясь сквозь заторы камней, мерцали далекие огоньки в стороне от проезжей колеи: мягкая густая тьма южной осенней ночи обступала со всех сторон.
Отрядная жизнь снова пошла, как и прежде, — размеренно, тихо. Привезли в отряд новые аэропланы. Ваня целые дни проводил возле ангара.
Васильев однажды вызвал Быкова:
— Вы, что же, намерены мальчика здесь навсегда оставить?
— Он не долго у меня проживет, до первой оказии.
— Советую вам поскорей подумать о ней.
На том разговор и кончился. Отправлять Ваню одного Быков не решался, так как до Москвы было множество пересадок, и за два месяца не добрался бы мальчик до дому, если бы поехал один.
К Васильеву частенько приезжали веселые компании из Черновиц. Снова появилась у него в доме Мария Афанасьевна — сестра из пылаевского отряда. Она изменилась, подурнела, в её повадке появилась неприятная развязность: глядя на неё, трудно было поверить, что еще совсем недавно эта молодая девушка слыла скромницей и недотрогой… По вечерам из дома Васильева доносились крики, слышался смех, а иногда и женский плач.
Васильев, пьяный, с растрепанными волосами, в расстегнутом кителе, выбегал в такие минуты из дома и долго сидел на скамеечке. Потом выходил Пылаев и начинал увещевать поручика. Васильев, махнув рукой, возвращался, и ненадолго снова наступала тишина.