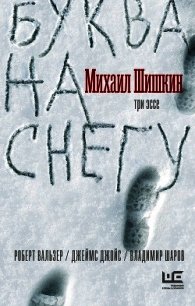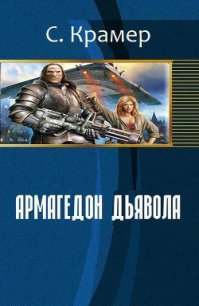Взятие Измаила - Шишкин Михаил Павлович (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
Он жил вместе с матерью, такой же щуплой, жеваной и беззубой. В комнатке с низким потолком и крошечными окошками было жарко от печки и пахло чем-то деревенским.
Я достал было свой блокнот, но на меня замахали руками, мол, с дороги нужно отдохнуть, поесть. Они все говорили со мной, откусывая за ненужностью окончания, а друг с другом объяснялись просто какими-то междометиями.
Сели за стол.
Появилась сковорода с картошкой и бутылка водки. Старуха ловко сковырнула козырек, налила всем по полному стакану и, буркнув что-то, выпила до дна мелкими жадными глотками.
Серега опрокинул залпом свой.
Я стал было объяснять, что приехал вовсе не за этим, что я на работе, что я хотел бы сначала записать его рассказ о спасении немецкой девочки из проруби, задать еще ряд вопросов, но они так посмотрели на меня, что я взял свой стакан и выпил.
Стали черпать картошку с луком и салом ложками прямо из сковородки.
Старуха облизала горлышко пустой бутылки и достала вторую.
Я хотел было наотрез отказаться, сослаться на почки или еще на что-нибудь.
И вдруг, неожиданно для самого себя, подставил ей стакан:
– Наливай!
Произошло чудо. Впервые старуха не осклабилась, а улыбнулась мне по-человечески:
– Пей, сынок!
Мы выпили по второй.
Что-то изменилось в мире. Серега оказался симпатичным застенчивым парнем, его мать – милой разговорчивой женщиной. Она расспрашивала меня о жене, сыне. Жаловалась, что пора Серегу женить, да не на ком. Сокрушалась:
– Все теперь такие пошли бляди!
В окно заглянуло солнце, заиграло в стаканных гранях. В избе сделалось уютно, просторно, по-домашнему.
Набив живот картошкой, я устроился у печки и слушал, что летом здесь просто рай, можно купаться на запруде, ходить в лес по грибы, собирать на болоте ягоды, там их полно. Они стали уговаривать меня, чтобы я приехал сюда летом – с женой и ребенком.
Помню, что, действительно, ни с того ни с сего захотелось бросить все к чертям собачьим, взять Свету, Олежку и мотануть сюда на все лето – ходить купаться на запруду, собирать в лесу грибы, уйти куда-нибудь подальше от людей на болото, где полно ягод.
Старуха сказала, что нас ждут у ее сестры, и мы выпили еще бутылку на посошок.
Дальше все вспоминается какими-то всплесками.
Снова жарко натопленная комната. Какое-то варево в кастрюле, снова хлебаем без тарелок.
Какие-то симпатичные добрые люди, которые рады мне, хлопают по спине, чокаются.
Вспоминаю, что пошел во двор и в темноте споткнулся в холодных темных сенях о полусъеденную свинью.
Чей-то черный заскорузлый палец тыкал в желтую фотографию и объяснял, что у деда на войне снесло осколком кусок черепа, но не затронуло мозга – и он так жил, с тонкой кожицей на затылке. Мне запомнилось, что кожица была – как пленочка на яйце.
Еще какая-то полуистлевшая фотография служила в зоне охранником – зеки, улучив момент, сунули ей нож в ребра.
Какие-то младенцы оказывались уже замужем во Владивостоке.
А вот старуха в платке, утирая кончиками слезы, рассказывает мне, что у Сереги еще есть старший брат, но он сидит в тюрьме, потому что на своей свадьбе поссорился с отцом, подрался и прибил его молотком.
Потом оказывается, что этой женщине, сестре Серегиной матери, показавшейся мне старухой, нет и тридцати пяти.
Помню, пошли еще куда-то в гости, и еще. Везде меня хлопали по плечу, чокались. Везде тыкали в фотографии, везде кого-то рожали, женили, убивали.
Еще вспышка, последняя в тот день: мать Сереги сидит на полу у печки и ревет, размазывая по лицу слезы.
Я:
– Что с вами? Что случилось?
Она машет рукой:
– Да это я так, по пьяни!
Потом провал.
И пробуждение, от которого и сейчас, через столько лет, бросает в дрожь.
– На, сынок, выпей, – говорит мать Сереги, увидев, что я открыл глаза, и протягивая мне полный стакан водки.
Зажав пальцами нос, я выпил. Действительно, стало легче.
Снова вспышки.
Вот магазин. Серега покупает водку. На прилавках только водка и консервные банки с морской капустой.
Вот почему-то кладбище. Пьем на чьей-то могиле. Может, его отца? Церковь без головы. Серега рассказывает, что когда-то церковь хотели взорвать и разобрать на кирпичи – несколько раз подрывали, но у нее только купол провалился, а стенам хоть бы что. Так и стоит с тех пор.
Я хотел пойти посмотреть, что там внутри, но Серега махнул рукой:
– Туда не войдешь! Все засрали.
Я спросил:
– Так что там все же было, с девчонкой-то?
Наконец я услышал рассказ о совершенном Серегой подвиге.
Он стоял зимой в карауле, на задах военного городка. Под откосом внизу проходил канал. Вода замерзла, и по льду бегали ребятишки. Вдруг кто-то из них провалился в полынью. Визжит, барахтается, хватается за лед, а выбраться не может. Остальные испуганно замерли вокруг, потом побежали на берег, к домам.
– А я стою на посту, понимаешь? – рассказывал Серега. – А пост покинуть не могу по уставу, понимаешь? Ну, стою. А она там визжит. Я опять стою. Меня вот-вот сменить должны. Что, я все брошу, пост, автомат и в воду, что ли? Это ж трибунал. Прапор, сука, давно на меня зуб точит, а тут такой повод, пронимаешь? А мне до дембеля почти что ничего. Опять стою. А она опять визжит. Ну, думаю, хрен с ним, с дембелем! Не могу больше – бросил автомат, тулуп, сковырнул сапоги – и туда. Лед подо мной треснул, я по уши в воде. Но там неглубоко было. Вытащил ее, а от ближайших домов уже кто-то бежит – может, в окно увидели. Я отдал им девчонку – и обратно, на пост. А там уже разводящий из-за угла. Я весь мокрый, без сапог, автомат из сугроба торчит. Я ему про девчонку, а он даже слушать ничего не стал. Так, мокрого, и под арест.
Я спросил Серегу что-то очень глупое, типа:
– Как же ты не заболел-то?
Он засмеялся.
– Подумаешь! Пацаном-то сколько раз так вот провалишься – выльешь воду из валенка и дальше бежишь.
– Ну, а потом что было?
– Провел ночь под арестом. Сам знаешь, мало приятного. На следующий день приходят за мной, мол, давай, Мокрецов, наделал делов, теперь собирайся. Ну, думаю, песец, теперь дадут пивка попить, не расхлебаешься. А оказывается, вон как все вышло – ее отец к нашему начальству прибежал, стал меня требовать. Так вот я вдруг в героя и превратился. Даже в Берлин возили
– дали ихнюю медаль за спасение утопающих. Во как!
Я спрашиваю:
– А где медаль-то?
Хохочет:
– А хер ее знает. Я, понимаешь, когда обратно ехал, в жопу нажрался, так меня обчистили. Все скоммуниздили. И медаль тоже. Во как!
И снова захохотал. И я вместе с ним. Обнимаемся, пьем из холодных, с ошметками снега, стаканов, грызем моченые яблоки, что его мать нам дала, смотрим на сугробы, из-под которых торчат кресты и звезды, на церковь, которую не взорвешь и в которую не войдешь, – и хохочем.
Помню, я умылся снегом, и вдруг стало так легко, свободно.
Потом опять вспышки.
Меня где-то выворачивает, чуть ли не на том же кладбище.
Опять у кого-то в гостях. Снова хлебаем из одной кастрюли.
Снег по колено. Сзади слышу:
– Куда ты? Стой!
А мне только хочется уйти куда-нибудь от этих людей, закопаться поглубже в сугроб и спать.
Не знаю – день или ночь, Серега мне:
– Счастливый ты, Мишка, человек! Спецкор, журнал! А я – что? Мне все тут завидуют – в ГДР служил. Да там звезды точно так же в жопы заколачивают. После дембеля вернулся – и что? Вон, навоз на поля вывожу. Потом водку пьешь, да морду кому-нибудь бьешь. И что? Тошно, Мишка!
Я ему:
– Ни хрена ты, Серега, не понимаешь! Я болтаюсь в этой жизни, как кусок говна в проруби, и сам себя презираю, понимаешь? А я себя уважать хочу. Я уже решил – брошу все это к такой-то матери и пойду в школу, детишек буду учить. Понял?
Серега:
– Ты что, охренел, что ли? Да зачем тебе это надо?
Я:
– Ни хрена ты, Серега, не понял!
Он: