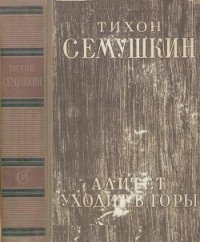Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
Хороши пироги, только неудобно нести их в рот мимо зажатого между коленями карабина. Острое лезвие штыка мешает наклониться к тарелке, все время напоминая, кто ты есть. Гнату хоть на минутку, хоть за пирогами хочется забыть о своих обязанностях. Пусть себе карабин постоит сбоку, опостылело Гнату день за днем таскать его по неблизким дорогам уезда.
Жандарм отставил ружье, прислонил к столу, снял, кстати, и каску, положил на лавку у окна, расстегнул воротник мундира и гуттаперчевый белый воротничок.
— Теперь гут, — сам себе сказал он и опять взялся за вилку.
С профессором тары-бары не разводил: запрещено, согласно жандармскому предписанию, зато не без приятности перенесся мыслью в кабинет пана Скалки, перед которым окажутся заметки, записанные со слов самого царя… Боже, Гнат даже представить себе не может, как же просияет седоусое лицо коменданта Скалки. Ознакомившись с бумагами, пан майор, верно, скажет:
«Эти заметки пойдут в Вену, к самому императору Францу-Иосифу. И повезешь их ты, капрал. Поедешь капралом, вернешься не меньше как вахмистром».
— Ну что, хороши пироги? — нарушил молчание Петро.
Жандарм кивнул головой, промычал что-то невнятное, с трудом глотая плохо прожеванный вареник. «Хоть бы ты подавился, земляк, — пожелал ему Петро. — Чтобы мне не пришлось марать об тебя руки». Мысли Петра вертелись вокруг одного: как перехитрить «гостя» и завладеть его карабином. В голове зарождался отчаянный план: неожиданным ударом между глаз свалить «когута» вместе с шатким стулом на пол и в тот же миг схватить карабин… Если удастся, игру в щедрое гостеприимство тотчас прекратить, если же не удастся и жандарм, прежде чем упасть, успеет схватить свой карабин, расправа тоже будет короткой…
Петро почувствовал, как часто пульсирует кровь в висках. Чем ближе дело подвигалось к тому, что в тарелке «гостя» не останется пирогов, тем отчаяннее колотилось сердце. Внутри у него все похолодело, стало не до пирогов, они не лезли Петру в горло, — все представлялось, с какой яростью всадит «землячок» штык ему в грудь…
«А ты, Петруня, не давайся, — вдруг прозвучал в его ушах голос Щербы. — Тебе еще рано умирать. Пусть подыхает этот предатель народа, мерзкая, продажная душа. А ты, Петруня, должен жить ради своего нелегкого дела, которое начал по селам. Ты не зря побывал в России. Теперь в Синяве, в Ольховцах, по другим селам в церковь идут не попов слушать, а твою мужичью литургию возле церкви. Если б не война — Шевченко и Франко уже дошли бы до лемковских гор и там люди узнали бы другую, истинную правду…»
Петро прислушивается к внутреннему голосу, и перед его глазами вставал Щерба, который именно такими словами подбадривал бы его, окажись он здесь, кивал бы головою в знак согласия, в знак того, что оправдывает то страшное, на что Петро вынужден решиться, пока жандарм не добрался до последнего пирога…
«Добре, Михайло, я кончу игру, я сделаю все, как ты советуешь». И, отложив вилку, смеясь на радостях, он восклицает:
— О, у пана капрала прекрасный аппетит! — Петро поднимается, протягивает руку к макитре. — Так позвольте, пан капрал, вам еще подложить?
— Не много ли будет? — заколебался жандарм.
— Ну, пожалуйста, пожалуйста, пан капрал, — уговаривает Петро. — На Украине их по полмакитры съедают. Таких, пан капрал, даже в Вене не попробуете.
Василь стоял у печки, наблюдая эту мирную сцену, и не мог понять, что происходит с дядей. Что жандарм жрет да еще и похваливает пироги — не удивительно, ведь его пригласили к столу. А что дядя лебезит перед жандармом, Василю просто стыдно делается за него. Василь на месте дяди поступил бы совсем по-другому. Их же двое, а этот пес один. Ишь как облизывается, как нахваливает мамины пироги! «Вы, дядя, — подмывало подсказать Василя, — надвиньте ему макитру на голову. Право! А карабин я сам схвачу…» Мальчик тяжело перевел дух. Нет, не родился дядя Петро храбрым збойником. Накладывает пироги так вежливенько, с любезной улыбкой, будто перед ним сидит не «черный когут», а лучший его друг.
И вдруг произошло чудо! Дядя Петро, словно подслушал мысли Василя, поднял обеими руками макитру и… вместо того чтобы поднести к тарелке, мгновенно надвинул ее «когуту» на голову, с силой оттолкнул его от себя и вместе с шатким стулом опрокинул на пол.
И тут произошло новое чудо: дядя, точно самый настоящий збойник, схватил карабин и, блеснув на солнце штыком, приставил его к груди оторопелого жандарма, лежавшего среди пирогов и обломков разбитой макитры. Черные космы волос, искаженное страхом лицо, черный мундир — все было залито, испачкано маслом и поджаренным луком. Один пирог почему-то оказался на груди, у самого подбородка, другой прилип к волосам, третий, недоеденный, застрял во рту…
— Вздумаете сопротивляться, — сказал Петро, — проткну штыком грудь. Он у вас, пан капрал, наточенный?
— Что вы собираетесь делать? — с трудом выдавил из себя «черный когут».
— Сейчас увидите. — Петро кивнул Василю: — Вынь из сумки наручники. — Мальчик, словно ждал этого приказания, кинулся к кожаной сумке на боку у жандарма, вытащил цепь с наручниками. — Надень их на руки пана капрала. На замок. Хорошо. А теперь, пан капрал, прошу встать. Малейшее движение — и штык в спину. Василь, надень на него каску. Все. И будь здоров! Слушайся маму. Мы не скоро увидимся с тобой. Ну, вперед, пан капрал. Стежкой за хатой — и к лесу. Там я прочитаю вам свои заметки.
Вечером того дня я записал в своем дневнике:
«Ненавижу тебя, император, самой сильной, какая только может быть в человеке, ненавистью! Ненавижу и проклинаю! Чтоб тебе, противному седому старикашке, вечно холодным червем по земле ползать, чтоб ты, как говорит мама, пожрал своих детей, чем наших людей поедом есть! А еще проклинаю тех писак, что тебя, старый черт, нахваливали в школьных хрестоматиях! Придумал, благо ты император, войну для людей, чтоб в тебя за это, ворюга, первая же москальская пуля угодила, чтоб ты сдох без креста и без исповеди и чтоб на твою могилу плевали все люди! Так говорит заплаканная мама, так говорю и я!»
Не спится Катерине.
За окном тихая осенняя ночь, в хате черная густая темень. Замолк сверчок на шестке, неизменный спутник долгих тревожных ночей Катерины. Спят малые дети рядом с ней на кровати, не слышно на печи Иосифа, оторвался от своей тетради, задул лампу неугомонный Василь в боковушке. Одну ее мучит дурное предчувствие, не может уснуть от щемящей боли в сердце, от нескончаемых тяжких дум.
Что ждет их? Ради чего император затеял войну, когда его войска за какой-то месяц откатились аж к Перемышлю, отдали врагу пол-Галиции? Русские-то пусть бы приходили, измучились люди под этими швабами, осиротело село от арестов и мобилизаций. Но, боже милостивый, подумал ли ты, что в том императорском войске ее газдуня, ее любимый Иван? Что ж это получится, когда русские вступят в село? Она здесь с детьми, а газда там, невесть где, отступает со швабами из родного края… Кто ее защитит от чужих жолнеров? Если «свои» забрали вчера корову, а перед тем очистили чердак от зерна и сена, чего ждать от вражеских жолнеров, от тех страшных вояк в лохматых шапках, которых называют казаками. Вахмистр гонведов [23] заворчал на нее, когда, обняв за шею корову, она прощалась с ней.
— Мы всего лишь коров берем, а казаки вас самих поведут на веревке. Казаки вам покажут, чей император лучше!
Тем временем из Санока долетели иные слухи, более радостные, — что из города бегут богатые торговцы, что исчез из замка всемогущий уездный староста со всем своим «причтом», а в самую последнюю минуту дал деру комендант Скалка с «черными когутами», а за ним драпанул из поместья владыка гор и лесов пан Новак с сыновьями.
С той минуты в Ольховцах кончилась имперская власть. Вместе с последним полком потрепанной под Перемышлем пехоты отошла за Сан императорская Австрия, и панские земли, все горы и леса остались людям.