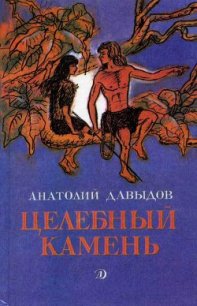Камень и боль - Шульц Карел (книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Тот, кто жаждет свой век продлить,
Мерой дней не довольствуясь,
Говорю не колеблясь, – тот
Не лишен ли рассудка?
Что нам долгие дни! Они
Больше к нам приведут с собой
Мук и скорби, чем радостей.
Если пережил ты свой век.
Позабудь наслаждения!
Срок придет, и всех сравняет
Лишь раздастся зов Аида
Песен, плясок, игр чужда,
Смерть – всему окончанье.
Голосом, горьким от слез, Полициано в тягостной тишине продолжал декламировать стихи антистрофы:
…Так, лишь юность уйдет, с собой
Время легких умчав безумств,
Мук каких не познаешь ты,
Злоключений и горестей 1.
1 Софокл. Эдип в Колоне, стихи 1262-1272 и 1279-1282.
У него сорвался голос. Философ закрыл лицо руками и умолк. Заговорил Лоренцо:
– Знаешь, Анджело, я не жалею ни о чем из того, что сделал… Часто приходилось разрушать даже папские замыслы, когда тиароносец воевал ради интересов рода и в ущерб церкви; я узнал много такого, о чем буду молчать даже перед престолом божьим, – пускай другие жалуются. Я боролся за мир даже против пап, ты знаешь, – Джироламо Риарио! И другие! А что из этого вышло? Теперь Иннокентий… тоже, говорят, уже при смерти! И кандидатов на его место двое: кардинал Джулиано делла Ровере – от него спаси бог Флоренцию, и кардинал Родриго Борджа – от него спаси бог церковь…
Он говорил так тихо, что Полициано пришлось к нему наклониться, чтоб разобрать.
– Нет, право, не жалею… Только об одном! Это была самая крупная моя ошибка, но и самое большое горе… Единственный промах – и так дорого пришлось мне за него заплатить!
– Приглашенье… Савонаролы? – прошептал Полициано. – Вот видишь, я тебя предостерегал тогда… удерживал…
– Нет… – с трудом промолвил Лоренцо. – Не то. Об этом я не жалею. Савонарола – великий человек, и он был нужен, утверждаю даже теперь, когда он повел наступление на меня. В лице фра Джироламо восстала сила, которая должна была прийти, я только ждал, когда уляжется первая ее волна. Фра Джироламо и я – оба мы боролись за чистоту церкви, против симонии пап, о которой идет молва по всей Европе, – каждый на свой лад… Если бы мы помирились, от этого произошло бы много добра… Но он и во мне видел врага, платоника. И против меня пошел. Но как я боролся с ним? Я мог бы добиться от папы, чтоб тот посадил его в римскую тюрьму. А вместо этого я позвал его сюда, под свою охрану. Мог потом выслать его из города. А вместо этого осыпал его самого и монастырь подарками и пожертвованиями. Мог добиться от генерала ордена, отца Турриано, запрещения его проповедей, а вместо этого настоял на его назначении приором, а потом представителем ордена доминиканцев от Тосканской провинции. Вот как я боролся с ним. Я ни разу не сделал ему ничего плохого, хотя мог. А теперь еще одно… Позвал его к себе…
– Ты… позвал Савонаролу… сюда… в Карреджи?.. – пролепетал в изумлении Полициано.
– Да… а почему бы нет? Он призывал на меня кары господни, называл меня язычником. А я позвал его затем, чтоб он дал мне благословение.
– Лоренцо… несоответствие сущего… ты помнишь? Еще раз предостерегаю тебя… Ты говорил, что над каждой твоей трагической минутой, над каждым твоим судьбоносным мгновением всегда появляется какая-нибудь плоская острота, грубая шутка, насмешка, – помнишь тогда Фичинов смех? А потом Скарлаттинов лай и всякое другое… Я тебя всегда предостерегал… говорил: "А не кажется тебе, что ты часто устраиваешь это сам?"
– …чтоб он дал мне благословение, – повторил Лоренцо. – Ради двойной пользы. Во-первых, я предстану перед богом с этим благословением, а кто знает, что скрыто в презираемом фра Джироламо. И, во-вторых, – для семьи, понимаешь, для нашего рода… понимаешь, для Пьера. Великая моя забота Пьер! Пускай узнают во Флоренции, что Савонарола помирился с Медичи… даже если будут говорить, что Маньифико на смертном одре унизился перед Савонаролой, – да, пускай говорят повсюду, – понимаешь, это для Пьера! Савонарола теперь в силе, и Савонарола благословляет своими руками. Кого благословляют, тому желают добра, того прощают, на того призывают милость божию. Пускай об этом говорят во Флоренции, это важно для Пьера – понимаешь?
Он умолк, изнеможенный. В голосе его было столько печали, тоски и тревоги, что стесненное Полицианово сердце стало новой плавильней боли.
По римской дороге мчал во весь дух к воротам Флоренции покрытый пылью и потом гонец. Но было еще далеко.
В сенях послышался шум и шепот многих голосов. Приехала Кларисса Орсини и сноха Альфонсина Орсини, урожденные римские княжны, приехали мальчики Джулио и Джулиано, пришла вся Платоновская академия в полном составе, старенький маэстро Бертольдо, ничего не видя от слез, пришел, пошатываясь, поддерживаемый учениками, среди которых был Микеланджело; Бернардо Довицци Биббиена, невыспавшийся, но бодрый и важный, оживленно беседовал с Пьером. Появился гонфалоньер республики Кристофоро Ландини, появились представители Совета пятисот и Синьории. Все теснилось в сенях, все ждало, когда правитель позовет проститься. Полициано слышал этот глухой гул. Для их беседы вдвоем оставался лишь малый срок. Он наклонился к Лоренцо, так что лица их соприкоснулись.
– Так в чем же самая большая твоя боль, Лоренцо, твой промах, за который ты дорого заплатил?..
Медичи открыл глаза и поднял было руку, но она опять упала.
– Маддалена… – прошептал он. – Брак Маддалены… кровавый, продажный Рим… истасканный Франческетто Чиба, картежный мошенник, папский сын, торговец индульгенциями… завсегдатай публичных домов и трактиров… расхититель папской казны… ему-то отдал я самое дорогое свое дитя, все свое счастье, свою Маддалену! Величайший мой промах заключался в том, что и я однажды пошел навстречу папским замыслам, один только раз… а когда спохватился, было уже поздно… Подумай, какой был бы ужас, если б умирающий Иннокентий захотел сохранить за своим родом власть и вдруг опоясал бы эту куклу, своего сына, негодяя этого, – мечом… Ах, Педро Луис, Джироламо Риарио, какие это были противники! Тоже папские племянники… Но Франческетто этот! Если б из-за него вспыхнула война, теперь, когда французы стоят у ворот, из-за него, только что вставшего от объятий какой-нибудь девки за Тибром…
– Понимаешь, – прошептал Полициано, – это невозможно. Вся власть – в руках князя Сансеверино, папского кондотьера, и потом, кардинал Родриго Борджа, – эти двое не допустят…
– Я знаю, – с трудом кивнул головой Лоренцо. – Хоть этого мне не надо опасаться… И можно умереть. Как это там сказано? "Если пережил ты свой век, позабудь наслаждения. Срок придет и всех сравняет, лишь раздастся зов Аида, песен, плясок, игр чужда, смерть – всему окончанье… Лишь юность уйдет, с собой время легких умчав безумств… Бог же летейской росой отягченную ветвь…" Нет, это откуда-то еще… Откуда, Анджело?
Лицо его пылало. Пересохшие губы потрескались от жара. Руки уже не дрожали, а тряслись. Полициано в испуге привстал.
– Я позову их… – выдохнул он.
– Откуда? – прохрипел Лоренцо. – Анджело, не уходи… Откуда? "Капля вод из реки подземной…" – это не выходит у меня из головы… "Бог же летейской росой отягченную ветвь…" Откуда это, Анджело?..
– Вергилий…
– Скажи еще раз… я не помню дальше… у меня все туманится.
Лицо пылало, и волосы на лбу слиплись от пота. Руки бегали по одеялу. Глаза блестели, как стеклянные. Он отрывисто приказал открыть дверь.
Стали входить. Склонив головы, кидая беглые взгляды на постель, словно слишком тяжел был для них печальный обряд смерти. Пол, стены, окна – все как обычно. Но в то же время все словно покрыто тенями. Потому что последние из пришедших принесли известие о том, что свод храма Санта-Мария-дель-Фьоре дал трещину, и в этом видели знаменье, полное непостижимо страшного смысла. Почему именно в Санта-Мария-дель-Фьоре – там, где была кровавая месса Пацци?.. Все теснились, ожидая услышать, что скажет умирающий, и, благодаря их множеству, им казалось, что они в склепе. А вдруг и здесь треснет свод появится темнеющее апрельское небо с ядовито-зеленым металлическим блеском новой звезды… Многие поспешно опустили головы в ожидании слов умирающего правителя.