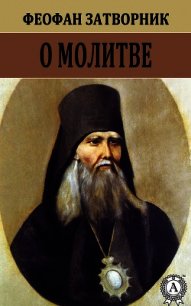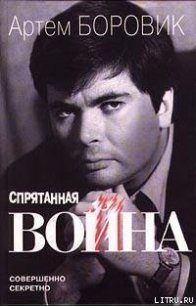У града Китежа(Хроника села Заречицы) - Боровик Василий Николаевич (версия книг .txt) 📗
В одиннадцать часов ночи во двор заехали два «лишафота», тарантасы с местами для сиденья. Ну, как бы это вам сказать — на телеге сколочен вроде бы продолговатый ящик. На одном «лишафоте» можно сидеть двоим, а другой был — трехместный.
В пять часов утра дали приказ — дать смертникам чай. Не помню уж, кто чай пожелал. Никто из них в ту ночь не спал. Только слышны были шаги по камере — похоже, пичужки метались в клетке. На зорьке Перовская попросила дать ей чай с лимоном. Подали ей чай. Лимон-то она ложечкой подавила, да так чаю-то и не глотнула.
На дворе, на главном посту готовились ехать. Первого из камеры вывели Рысакова. Палач еще не приехал, его ждали помощники. На вид им было лет по тридцати-сорока, оба в бороде. Они заставили смертников надеть чистое белье, такие же штаны, сапоги желтые — нечерненые, из неотделанной кожи. На голову нахлобучили шапки с наушниками, вроде бы картуз без козырька, из простого серого сукна, и экий же бушлат. Один из палачей попросил «возжанку» — веревку. Подобрал у парня одну руку, другую и на сгибе локтя стал затягивать, видать, чтоб не барахтался руками, и затягивал так — парень-то даже крикнул: «Да ведь больно!» И тут наше начальство распорядилось сажать Рысакова на двухместный «лишафот». Посадили его и еще раз привязали широким ремнем с пряжкой. Стянули и ноги таким же ремнем. Всех так обрядили и связали. Перовская была в женском одеянии — серое платье простой ткани, голову покрыли белым платком, ноги обули в желтые башмаки.
Рядом с Рысаковым посадили Желябова, на трехместном «лишафоте» тесненько, но уместились Михайлов, возле него Перовская и Кибальчич. Все они, милые мои, сидели спокойно. Эку-то страшную казнь готовили на главном посту дома предварительного заключения.
Наше начальство осмотрело, надежно ли все привязаны. Дало распоряжение ехать. Нам приказали идти возле повозок. Кучера взялись за вожжи, ну а лошадкам — хошь не хошь, кака бы поклажа ни была, везти надо.
Отворили ворота. И только «лишафоты» выехали со двора, а улица уже была запружена войсками. Впереди строя с десяток стояло барабанщиков, и, чтоб не слышно было голоса привязанных, грянула барабанная дробь.
Выехали «лишафоты» на Литейный проспект, и Михайлов, похоже, порывался что-то кричать. Я шел рядом с повозкой и заметил. Перовская, видать, уговаривала его. Поговорить-то им до того не довелось. Одевали их поодиночке. На Литейном народу собралось видимо-невидимо. Один из казаков — тоже из охраны — показывает нашему офицеру на балкон: дескать, смотри как плачут. А на балконе стояли, обнявшись, какие-то миловидные дамочки. Офицер кивнул кому следует, и плачущих, наверное, утешили, как полагается.
Наконец «лишафоты» появились на Семеновском плацу. И тут собралось миру столько — глазом не окинешь. «Лишафоты» подъехали к деревянному помосту, окрашенному темной краской. На помосте возвышалось пять столбов. У каждого столба наверху — кольцо, и в кольцо вдета возжанка с петлей.
Готовых к смерти поодиночке подвели к столбам. На правом фланге первым ввели на помост Рысакова. Поставили лицом к востоку и привязали к столбу. В помощь палачам из какой-то тюрьмы доставили арестантов. Они что-то около парня долго суетились. К следующему столбу поставили Желябова. Он у них, слышь, главным был. Третьей подвели к петле Софью Перовскую. Возле нее встал Михайлов. И на левый фланг поставили Кибальчича. Когда их всех привязали, к ним подошел какой-то генерал, и тут грянули оркестры. Вокруг помоста собрали музыкантов. Шума было больше, чем на Шпалерной. От барабанного боя, от музыки ничего нельзя было понять, какие слова говорил генерал. Он подходил к каждому осужденному и читал какую-то бумагу. Закончил он читать, к помосту подъехали две кареты. Из них вышли пять священников, каждый с крестом и евангелием в руках. Перовская покачала головой — не пожелала целовать ни крест, ни евангелие. Тощенький батюшка от нее торопко вернулся в карету. И тут главный распорядитель казни приказал отвязать от столбов осужденных и разрешил им проститься друг с другом. Они обнималась, низко кланялись народу на все четыре стороны. Видать, что-то пытались сказать, но не слышно было: голоса их заглушала барабанная дробь.
Тут их снова подвели к столбам. Накинули на них длинные мешки до пола. И их лиц не стало видно. Начальник казни поднял руку: дескать, начинай.
К Кибальчичу, я так полагаю, подошел главный палач. Возле его столба стояла приготовленная стремяночка — лесенка небольшая, палач ввел Кибальчича со связанными руками по стремяночке, подтянулся к кольцу, ухватил петлю, накинул ее на шею (у мешков возле шеи был прорез). Палач сошел с лесенки, выдернул стремяночку из-под ног Кибальчича. И повешенный стал крутиться. Видно было, как его руки в мешке вскинулись. Народ вздрогнул, загудел. А палач не торопясь подошел к Михайлову. Проделал с ним то же самое и не успел отойти — веревка будто чудом каким-то порвалась. И Михайлов, бедняга, грохнулся на помост. Больно, видно, ударился. Народ на плацу ахнул. Кто-то крикнул: «Невиновен!..» Палачи, видать, испугались, забегали. Михайлова подняли, взяли веревку, приготовленную Перовской, и снова повели его по лесенке, к петле. Заправили голову в петлю, выдернули стремяночку. И опять словно ножом перерезали веревку. Кто-то из нашего дивизиона слышал — кучер полицмейстера не сдержался, крикнул: «По старинному закону — простить бы надо!» До прощения ли тут? Наверное, он уже без чувств был. Арестанты в желтых тулупчиках подняли его на руках, петлю из двух веревок накинули — и он уже не шевельнулся. Но и на этот раз одна прядь веревки все-таки не выдержала. Все видели, как она малость раскрутилась и только один кончик дрябло повис. С Перовской расправились быстро. После нее повесили Желябова и последним прикончили Рысакова. На виду у православного народа висели они на столбах минут пятнадцать.
На плацу наступила тишина. Народ словно оцепенел.
Подъехал черный фургон, запряженный тройкой лошадей. Из фургона вынесли черные гробы… ставили гроб перед повешенным, палач снимал петлю, и как только казненный касался ногами нижней доски, гроб наклоняли к земле, заколачивали и относили в фургон. Начали с Рысакова. Так всех уложили и увезли. А куда, вот этого, мужики, уже не знаю.
…После убийства царя к нам на Шпалерную привозили народа без конца. О многих и многом забыл. Тайком разговаривал с Пресняковым, Квятковским, Якимовой. Как-то она сказала: «Мы ведь знали — нам виселицы не миновать, но шли на это». А я ей говорю: «Зачем вы нашего шефа зарезали?» — «Так, говорит, надо было». А прикончили они нашего Мезенцева ловко. Слушая ее, диву давался, что только за люди — не страшились ни тюрьмы, ни виселицы.
Сидел у нас такой Суханов — минный офицер. Он закладывал мину на Садовой улице, где сырная лавка Кобызева. Если бы государь поехал по Садовой, то там бы его мина подкинула. Но, видно, кто-то шепнул нашему начальству, и Суханова сцапали.
Пришла к нему на свиданье мать: «Миша, плачет, милый мой, что я без тебя стану делать-то?» А он, будто ничего и не случилось, говорит матери: «У вас есть еще две дочери, а обо мне забудьте».
По Петербургу наше начальство навело такой порядок, такую тишину. К нам тащили виновных и невиновных. Стены-то у нас высокие — сажени в полторы. Приходилось слышать и как состукивались по трубам. Для видимости крикнешь: так, мол, не полагается! И входить в соглашение с арестованным не дозволялось, тут же попадешь навечно в Алексеевский равелин. А равелин — тюрьма страшная. В нашей предварилке — благодать. А там — приварок на две копейки, полфунта хлеба, людей живьем гноили. Оттуда сменишься с поста — голова болела.
Не забуду. Сидели у нас две барышни: Каленкина Маша и Малиновская. Как ее звать — забыл. Живописью занималась и с Каленкиной перестукивалась. Нам приказывалось — об этом доносить дежурному офицеру. И кто-то из наших ребят сказал: «Барышни что-то перестукиваются». А в мое дежурство Малиновская дает звонок в коридор. Спрашиваю: что вам угодно?.. Она протягивает мне записку: Каленкиной, слышь, передай. Я посмотрел вправо-влево: никого, а передать страшно. Полюбопытствовал: а что, мол, написано-то? Читаю: «Маша, милая, прекращаю стук к тебе и жизнь». Записочку я передал дежурному офицеру. И снова ее звонок. Она опять дает мне бумажку: «Снеси, говорит, на главный пост — начальнице». Я придержал записочку у себя и стал смотреть в стеклышко. Они были секретные, чуть глаз убирался. Вижу — барышня отстегнула ремни от ящика с красками, привязала их к вешалке. Соображаю: барышня-то замышляет что-то неладное. Встала она спиной к стене и накидывает ремень на шею. А я в момент форточку отворил, в которую пища подается, и закричал: «Барышня, что вы делаете?!» Она от испуга на ногах не устояла и упала. И я-то за нее перепугался, побежал к начальнице. Отперли камеру. Стали Малиновскую уговаривать: «Да что это с вами?..» А она, указывая на меня: «Зачем он сказал…» Но как было не сказать. Ведь и нас держали в строгости. И меня даже посадили. Пять ден просидел — земляка гвардейца встретил, задержался с увольнительной. А у меня вскрыли сундук — карточку моей знакомой разглядели. За какие-нибудь три часа разыскали и ее, и земляка. Но они сказали, что я непорочен.