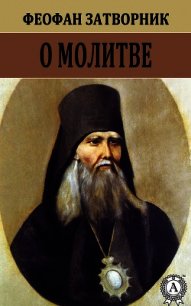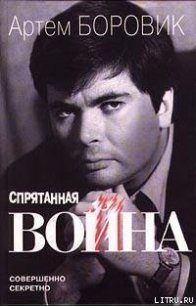У града Китежа(Хроника села Заречицы) - Боровик Василий Николаевич (версия книг .txt) 📗
Бывало, приду летом из леса, а мне старуха свекровь сказывает:
«Ляксандра, ребятишки-то твои хлебу черному рады больно были, а Марфины-то — с белыми кусками хлеба по улице бегали».
Мой Федор не обращал на это внимания и сшибся с заскочихинской бабой Олимпиадой. Ушел из дома. Поступил в затон — на Волге. Порядили его к пароходчику Гордею Чернову, и я провожала его туда…
Пожил он там недели три. Пришла Казанская — наш престольный день. Сердце у меня что-то болело: наверное, Олимпиадка у него. Стала я думать, как бы мне попроситься сходить в затон, а проситься надо было у Петра — он большак в доме. Решилась.
«Петр Иванович, — говорю, — пустите меня в затон. Наверное, там у Федора Олимпиадка».
«Поди, слышь».
Я пришла. Принесла Федору рубаху белую, а он мне и баит:
«Пошто это ты пришла?..»
«Скучилась».
Надел он рубаху. А он любил ходить чисто. Начесался. И тут же сторож идет, постучался в избу и окликает:
«Родионов, тебя спрашивают».
Пошел мой Федор да и пропал. Потом искали, искали его, а поленниц там много… Так и не нашли. Я спрашиваю сторожа:
«Кто его вызывал?»
«Черная баба. И он с ней ушел».
Ждала я его до вечера. Нет моего Федора. Меня научили:
«Пойди к капитану. Скажи ему все. Здесь таких, как твой мужик, капитан не держит».
Я пошла. Капитана звали Кирилл Иванович. Его на всей Волге знали. Говорю ему:
«Рассчитайте моего Федора Родионова. К нему любовница ходит, а я мучаюсь — рубаху ему чистую принесла».
Капитан нахмурился и говорит мне:
«Хорош бы он человек-то. Но через эко дело держать не буду. Только ради такой сдобной бабы, как ты, прогоню твоего Федора».
А ведь я Федора в то время уже полюбила. Дети пошли. Да и полечили меня. Татарин-мелочник ходил к моим родным. Он чего-то и наговорил. Его наговором поили меня, и я будто бы изменилась. Стал и Федор мне хорошим, согрешала с ним без молитвы. И я уже готова была ревновать его.
К вечеру, помню хорошо, солнце зажгло небо, и мой Федор идет от стогов. Народ на него глядит. И я тут. Думаю: «Что будет?» Он подходит к казарме, а капитан кричит:
«Родионов, поди сюда!»
Он подошел, а Кирилл Иваныч ему говорит:
«Получи расчет. Таких я не держу».
Когда мы шли на квартиру, я думала — Федор дорогой меня убьет.
«Ты это сделала?»
В избе он ни к чему не прикоснулся, злющий сидел. В ночь пошли домой. Я так и думала — он где-нибудь убьет меня. По дороге он мне сказал:
«Все равно с тобой домой не пойду. В Нижний уеду, в грузчики пойду».
Ну а я ему на это говорю:
«Дома я скажу, что ты сам просил прибавки жалованья, тебе не дали и ты рассчитался».
И он согласился вернуться со мной. Я его спрашиваю:
«Так ты что же Олимпиадке-то обещал?»
«Сказал: жена отберет у меня все рубахи и мне не в чем будет с тобой пойти… А она обещала: „Все тебе приготовлю — будут у тебя и рубахи, и портки“».
Но он ее все-таки бросил, и она как в воду канула, пропала, как туман с реки. А Федор после этого стал в жизни со мной лучше, только с братом скандалил.
До пасхи пожили, и Федор мой не захотел плыть с плотами, пошел в грузчики на Волгу. Сильный он был. Заработал деньги и сам себе купил на полудолгу бекешку малестину. Лежал этот малестин до другого года — все не шили. Весной он порядился к Дашкову на плоты — гнать лес к Астрахани. Петр призвал как-то швеца и спрашивает меня:
«Ляксандра, где малестин-то?»
Я ничего не сказала — дала. И сшили моему Федору полудолгу бекешу. Швецы меня ругали, жалели меня все. До троицы Федор прислал мне письмо из-под Самары, писал: «Приезжай, встречай меня в Царицыне». А плоты вел наш же зареченский Круглов. Я с его Круглихой и поехала в Царицын. Шесть суток пароходом плыли. Ждали их сойму. Круглиха глаз не спускала с Волги — глядела, ждала, а лес-то, оказывается, в Саратове продали.
«Давай, Ляксандра, готовься. Искать своих мужиков будем».
А мужик ее был большой озорник. Всю жизнь над женой мудрил. Баба милости, ласки искала, а Волга-то конца-края не имела. И мы к мужикам нашим на плоты-то и не попали. А мне-то уж больно хотелось свидеться, погрешить, поластиться, поглядеть, как-то мой Федор на плотах живет. Скучилась о нем, но так я и вернулась ни с чем. Круглиха покатила искать мужа и все-таки, слышь, догнала. И так было у нее не в первый раз. Ходили они до Царицына. А Федор одной весной доплыл до Макария да через Нижний прилетел ко мне и говорит: «Скучился о тебе». А он меня никак не звал. Но когда пошли ребятишки, называл «мать», а я его — «отец». Переспал он со мной сладкую ночку и опять пустился в дорогу дальнюю, не иначе как до покрова. Тут уж я ходила провожать его до корабельного леса. Проходил он на сойме лето. Тут у меня опять начались несчастия. Осенью прислал он письмо: приезжала бы в Нижний встречать. Прожила в Нижнем восьмеро суток, а Федора нет и нет. Так, не свидевшись, уехала домой.
Наступила зима. Вернулся Федор. Вот экий же мороз был, как в этом году. И отец собрал на двух лошадях Петра и Федора лес возить в Лыково, на пристань Инотарьева. Уехали мужики. Пробыл Федор недели три в Зимнице и как-то наказывает с попутчиками: приходила бы.
Пришла я к нему. Тут уж он меня здорово, видно, полюбил — хорошим, ласковым стал ко мне. Это было на масленой неделе, перед великим постом.
На сырной неделе, помню — пятница была, приезжает Петр и едет в Семенов на базар со своей Марфой и вернулся с базара в хороших сапогах. Петр что не жил — по-старообрядчески вина в рот не брал, зарок дал. Ну, а мужики-то пьют, и Федор с ними пьет. Потому-то он и не вылезал из лаптей. Никогда не забуду: Петр с Марфой вошли в избу, и Петр начал ругаться:
«Твой-то Федор, видно, пьянствует?»
Марфа баит:
«Отбери у него лошадь-то…»
Поехали Марфа с Петром отбирать от Федора лошадь. А мужики-то, с коими он работал, вступились за Федора:
«Гони-ка ты, слышь, хорошенько отсюда этих старообрядцев. Дай-ка им обоим трепку».
Федор-то их и шугнул. Они из леса-то и побегли. Приехали домой, нажаловались отцу. С расстройства-то Марфа захворала, без памяти сделалась. Пожила от пятницы до понедельника и умерла. Все люди дивились: «Батюшки, что сделалось с бабой-то. Да это никак Ляксандра намолила ей смерть за обиду. За тебя она поплатилась жизнью», — говорили в Заречице. Плакали о ней, убивались все — уж не знаю как. Она ведь была самая любимая в доме — и мужем, и свекром. Не щадя, господь-то их всех наказал.
После смерти Марфы все они покорились мне. А я стала еще добрее, ласковее со всеми. После Марфы остались три девчонки, я их жалела, как своих. Они ко мне привыкли, как к матери. Пойду к обедне, обратно иду — встречают меня, кричат: «Нянька!» Миша мой был ровесником младшей девчушке. Его, бывало, не возьму на руки, а девчонку беру. Жалела сирот.
Петр все это видел и был со мной хорошим. Жить мне в доме стало легче. К тому времени и Федор мой стал еще лучше. Всем было на диво. Петр-от был молоденький на лицо-то, а Марфа и в гробу-то лежала старая-престарая. Она ведь, бывало, возьмет Петра да так и перекувырнет. Сильная была и жила с ним хорошо, спали носик в носик.
Прошел великий пост. На Керженец весна пришла. Разлились реки, потекли ручьи. Одни сряжались с плотами плыть, другим надо было сватать Петру невесту. Бабушка, сродница, нашла ему в Лыкове девку. Сподобил же ее нечистый отыскать самую неудачную по родству. Бабушка словно затхлую нечисть подсунула Петру. Характер у девки был негодящим — не баба, а один только грех достался Петру.
Поженился Петр, а она — и нехороша-то, и некрасива-то. Да и это бы все ладно. Хоть бы умна была. Бабы-то наши — кержачки-то — твердые, упорные, кремнистые, а она — дура дурой. Поехали мы с Петром к молодой — гостинца повезли. А Федор меня ревновать было уже стал к Петру. А мне ведь надо было в поруки ехать, кто же, кроме меня, угоду сполнять будет?.. Увидала я невестку — она мне не показалась. Но мне ничего нельзя было сказать. В угоду она одарила меня двумя аршинами ситца… Ну, да бог ей это простит, и в резон я этого не приняла. Приехали домой. Стали затевать свадьбу. За грехи Петра его словно нечистый в бездну втащил, наказал его. Сделали свадьбу. Погуляли ничего. Я лапшу крошила, поварушкой была. За лапшу денег с мужиков набрала. Но Петру от экого порядка старины не легче было.