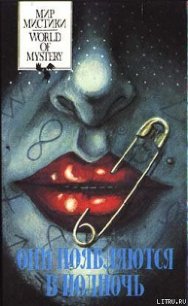Северный богатырь. Живой мертвец (Романы) - Зарин Андрей Ефимович (книга бесплатный формат txt) 📗
— Где же он?
— Надо быть, у Ирины Петровны. Мы ночью-то слышали будто шум, да побоялись. Нам строго наказано, чтобы зря не выбегать. Упаси Бог, ежели напасть какая…
— Чего же ты шепчешь, — сказала Катя, быстро вставая, — Соня, ты слышала?
— А? Что? — и Софья раскрыла глаза.
— Батюшка приехал! Петр привез его, слышь! Побегу к нему. Хоть в этом радость, что батюшка с нами! — и, наскоро надев сарафан и заплетя косу, Катя вышла из своей светелки, а затем босиком перешла в горенку больной матери.
Пряхов сидел на том же месте подле жены. Много горьких дум передумал он в эту ночь, глядя на недвижно лежащую Ирину Петровну. Вспомнил он, как вводил ее в свой дом в Спасском, вспомнил, как она родила ему Якова, потом Катю; двадцать один год мирной, согласной жизни в почете и довольстве промелькнули, как сон, и вот теперь страх, болезнь и скорбь… скорбь без конца. Истинно та же история, что описана в Священном Писании про Иова Многострадального. Только тот повторял: «Ты дал, Ты и взял», — а вот он не может смириться. За что? Кому и что он сделал худого? Кого обидел, притеснил? Кажется, окромя доброго, ничего людям не делал. А вот заявился бродяга, подслушал неразумное слово, в гневе за сына сорвавшееся с уст, и все размело бурей. Пожалуй, еще хуже стало, нежели было. Теперь он в бегах. Найдут его — и не будет купца новгородского Пряхова. Позор и разорение.
А она, верная жена и подруга, словно поняла разом всю беду и вот: и живая, и неживая. Действительно, Ирина Петровна лежала на лавке навзничь, большая, толстая, как гора. Ее перекошенное лицо словно застыло; она, видимо, проснулась, и один ее глаз раскрылся и смотрел безучастным взором перед собою.
Пряхов нагнулся над ней, заглянул ей в лицо, взял за руку, назвал по имени, но она словно и не слыхала голоса мужа и лежала по-прежнему недвижно и безмолвно.
«Осиротел!» — с грустью подумал Пряхов и вдруг почувствовал горячие руки, обвившие его шею, горячие губы, целовавшие его глаза и щеки, горячие слезы на своем лице.
— Катюша! Доченька моя! — произнес Василий Агафонович прерывающимся голосом и, обняв дочь, зарыдал глухо, отрывисто.
— Ночь не спал, а теперь плачет! Что же это, хозяин? — раздался над ним голос Грудкина.
Пряхов, поцеловав дочь, отстранил- ее, вытер слезы, тихо улыбнулся и ласково ответил:
— Прости, друже! Духом я было ослаб, а теперь снова по-прежнему. На все воля Господа моего! — и он набожно перекрестился, а потом встал и поцеловался с Грудкиным. — Что скажешь?
— Да о многом нам поговорить надо…
— Ну, коли так, пойдем в мою горенку. Я еще и не был там с той поры, как вот с нею сюда приезжал, — и Пряхов, вздохнув, взглянул на жену, любовно перекрестил ее и вышел следом за Грудкиным.
Они прошли в сени, поднялись по лесенке и вошли в просторную, светлую комнату, убранную образами и полотенцами, с лавками, крытыми коврами, с резным столом и красивым поставцом.
— Ну, садись и давай разговаривать! — сказал Пряхов, садясь у стола.
Грудкин рассказал про все, что сделал со времени своего отъезда из Спасского, про торговлю, про служащих и после долгого, подробного отчета сказал:
— Теперь будем так делать: я перееду в город и там снова дела стану делать, а сюда ночью приезжать буду и тебе отчитываться. А там Бог даст…
Пряхов махнул рукой.
— Что Бог даст? — сказал он, — найдут меня, схватят и на Москву отправят, а там хвали Бога, если головы не снесут. Язык вырвут; руки, ноги выломают, животов лишат. Ох!..
— Грех говорить так, — остановил его Грудкин, — Бог не без милости. Мало ли что случиться может!..
— Ну, что там, — сказал Пряхов, тряхнув головой. — Делай все, будто ты — хозяин, и думай только о моей Кате, а я — будто меня и нет. Вот что! Да еще снеси дар воеводе.
— Много ли?
— Лучше больше, — усмехнулся Пряхов. — Снеси ему сто Рублев да камки, да бархату — по куску, что ли, да на рубахи ему атласу отрежь. И дьяку. Тому сорок серебра да тоже рухляди этой.
— Ладно. Так я поеду!
— С Богом!
Пряхов поцеловал Грудкина, и тот уехал, а Василий Агафонович прошел в соседнюю горенку, которая была у него спальней и молельной, и, опустившись на колени, стал истово молиться.
Тихо и однообразно потекла жизнь в ските для Пряхова и Кати с Софьей. Он вставал рано утром и подолгу молился, потом шел вниз и здоровался с девушками, потом садился подле жены своей и отпускал Матрену, которая служила при ней. Он сидел и думал о суете жизни и о быстро проходящем счастье. В полдень обедал и спал до трех по обычаю, а потом опять шел к девушкам.
Катя и Софья сидели за пяльцами; Василий Агафонович подсаживался к ним и молча любовался ими или вел с ними беседу, вспоминая Спасское.
В такие минуты приходил ему на ум и Яков. Где-то он теперь? Что делает? Может, его в лесу волки съели; может, шведы словили, а может быть, и служит он у царя-басурмана, поганит себя табачищем. Тьфу! Все нехорошо…
Когда Пряхов при упоминании о сыне вдруг замолкал, Софья вспыхивала ярким румянцем и низко опускала голову; она в то время сердцем угадывала мысли Пряхова.
К вечеру Василий Агафонович шел в скит, в молельню Еремеича или в горницу богородицы, и там вел тихие душеспасительные беседы, а к ночи уходил к себе.
Случалось, приезжал Грудкин и долго говорил с ним о делах: какой товар спрашивают, какой вышел, за каким в Москву послать или какой товар в Москву везти, что скупил дешево. Пряхов невольно втягивался в беседу о своем любимом деле и давал Грудкину советы или приказы.
— А как с воеводою? — спросил он его в первое же свидание.
Грудкин усмехнулся.
— Доволен был — во как! Говорит, Агафошку этого проклятущего взогрел страсть как и запретил ему в приказ и нос свой совать. Агафошка-то словно сгиб, — нигде его и не видно.
— А у архиерея?
— Какое! Агафошка-то и не был у него в служках. Я все разузнал. Надо так думать, что он из какого-либо монастырского двора беглый — может, с Соловок или с Пустозерска. Много ведь их бегает. Воевода говорит — «поймаю и постращаю». И дьяк за нас.
Пряхов покачал головой.
— А что толку в том? — покачал головой Пряхов. — Все равно мне глаз не показать на улице. Как-никак, а беглый.
— Подожди! — сказал Грудкин. — Воевода сказывал, что если царь там, в Ингрии, победит шведов, то в радостях можно будет челом бить.
Лицо Пряхова озарилось надеждой.
— А там еще Яков твой. Может, самому царю полюбится. Так-то!..
— Ну, а по дому как?
Грудкин снова обратился к делам и стал давать отчет.
Так день за днем проходили дни Пряхова и не в тюрьме, и не на свободе.
Еремеич в утешение его со слезами рассказывал, как терпел Аввакум сперва в Сибири, потом в Москве; как терпел Никита Пустосвят и сколь мужественно принял тяжкую казнь Кикин.
Кате и Софье было веселее. И сами они, две подруги, были всегда вместе неразлучно, и к тому же почти всегда с ними были веселые белицы Ольга или Матрена, причем каждая со своим секретом и своими историями. Соберутся в светелке за пяльцами и говорят, говорят: Катя — про свою краткую любовь, мелькнувшую как сон, Софья — про Якова да про то, как он у царя выслужится и своему отцу поможет, всех из беды вызволит, Ольга — про Ефрема, которого она полюбила еще, когда Пряховы раньше в скит приезжали, а Матреша — про красивого парня Федора.
— Грех это, знаю, — говорила она, — а как увижу его, так все забываю. Кажись, угляди Еремеич — и того не побоюсь.
— А какой грех? — возражала Ольга. — Разве мы зарок давали? С горя да с худобы сюда-то попали, а не то чтобы волей. Меня сюда мамка вот какой привела! — и она показала пол-аршина от пола. — Привела да и померла. Меня и оставили, а мне тут вовсе не мед.
— А я? — сказала и Матреша. — Тоже не по себе, а все же боюсь. Пашутку-то помнишь?
— А ну! — Ольга отмахнулась и побледнела.
— Что за Пашутка? Что с нею? — спросила Катя.
Матрена перекрестилась.