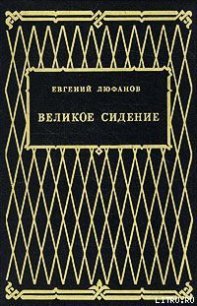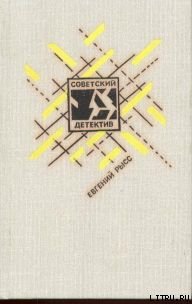Книга царств - Люфанов Евгений Дмитриевич (смотреть онлайн бесплатно книга txt) 📗
Сидя у тещи в будуаре и потягивая мозельвейен или венгерское, Карл-Фридрих порой томился леностью, не хотел уходить в свои покои и оставался здесь до утра. Супруга Анна не противилась тому, не выговаривала женского неудовольствия ни ему, ни матери. Вот и хорошо.
Екатерина назначила своего зятя, герцога голштинского, членом Верховного тайного совета, и честолюбие светлейшего князя Меншикова было уязвлено. Он уже не мог быть первенствующим в присутствии герцога, и просьба Меншикова отстранить его не была уважена. Светлейший остался очень недоволен, готов был рассердиться, но передумал и махнул рукой, – сами верховники не потерпят чужака и не позволят ему распоряжаться делами государства. А ему, светлейшему, предстояла поездка в Митаву, чтобы осуществить давно уже задуманное: в добавку ко всем своим чинам и званиям стать еще герцогом курляндским.
VI
В новгородской пятине пожухла и зачерствела жизнь. Рано сошел с земли слежавшийся зимний снег, весна выдалась безводная, жаркая, иссушенная земля стала трескаться. И вдруг по жаре сразу сиверко налетел, морозы ударили. На деревьях цвет и листву побило, болота ледяной коростой покрылись, и уцелевшие на них клюквины спеклись. Птицы взголчились, потянулись, как в осень, к людскому жилью, норовя себе корму уворовать. Вспомнили люди, что летось пестрые мыши в полях появились – не к добру это. Так к тому и вышло. Слыханное ли дело, чтобы кошка своего малого котя сожрала, а случилось такое, что было тоже худой приметой. Вот и горюй, бедуй, православный люд.
– У нас для ради чтоб дождь пошел, опричь баб, на поле поперек нивок землю сохой помечали, да нисколь то не помогло, – рассказывали на городском торгу мужики. – По силе-возможности собрали грошей да полушек, чтоб поп-батюшка не токмо в церкви, а и дома у себя со своей попадьей и с попятами молился о ниспослании дождевых туч, но, должно, мало он усердствовал, – сетовали на попа мужики, да только зазря на него облыжно так наговаривали. И в церкви – с утра до сумерек, – и дома поп молитвы шептал, стоя против переднего угла, где было тябло с образами, почерневшими и источенными тараканами, охотливыми до икон, писанных красками на яичном белке. Опасался поп свечку либо лампадку зажечь, – сушь такая, что даже капельного огонька было боязно поднести. Ни кухонь, ни бань не топили, а все равно от пожара не убереглись. Поднимали икону «Купины Неопалимой», но и от нее огонь не погас. Кончился пожар сам по себе, когда уже гореть было нечему.
За все лето брызнуло дождем один раз – мелким, дробным, да еще морось дня два держалась. Только при болотах кое-где зеленела трава, а по другим местам иссушило всю. Рожь уродилась настолько плохой, что редкие и тощие стебли не жали, а, как лен, руками дергали, и колосок у той ржи был почти пустой.
– И лебеды нет, – сокрушались крестьяне. – Кабы была лебеда – горя меньше. Она – наша кормилица. А как нет ее – что делать?
Рушились крестьянские хозяйства, пустели дворы без скотины. У иного мужика оставалось всего имения – кнут.
– Лошаденки нет – ни пахать, ни боронить. Засеять нечем, да и силушку – где ее взять?.. А придет стужа – одежки нет. Дитенки ревут, жрать хотят. Они, глупые, не понимают, им давай! А где что возьмешь?
Воевода изыскал способ борьбы с таким лихолетьем: велел пороть появляющихся в городе голодающих, чтобы они не разносили слухи о своем бедствии.
Мука, продававшаяся на городском Торжке, оказывалась затхлой и подгнившей, а то и с песком. Тесто из нее на лопате еще кое-как держалось, а в печке от жары блином расплывалось. Верхняя корка пузырилась, под ней была измочь, а мякиш походил на тяжелую и вязкую глину.
Ох, да и такой бы мукой рот набить, хотя она и вязнет, и хрустит на зубах. Едва отвернулся продававший муку бородач, как склонившаяся над мешком баба торопливо захватила полную горсть да скорей себе в рот. Мука лезла ей в горло, в нос, захватывала дыхание, прилипала к зубам и деснам. Хотя и заверяла баба, что, намереваясь купить, пробовала на вкус – не прогоркла ли мука, но как у нее за душой и ломаного гроша не оказалось, то расплачиваться за ту горстку муки приходилось ей самой жизнью под кнутом ретивых стражников.
В избе, еще недавно имевшей достаток, спать ложились без ужина, с чем никак не хотела смириться малолетняя дочка. Просилась:
– Пусти, мамка, по миру походить.
Но мамка говорила:
– Не подадут. Ни ближним, ни дальним соседям есть нечего, они сами просить милостыню незнамо куда ушли. Одни старики с ребятишками дома голодуют да мрут.
– А может, какие побираться ушли – возвернутся, и мы тогда себе у них выпросим, – надеялась дочка.
– Ага, может, так, – соглашалась мать. – А ты пока молись богу да спи больше.
Дочка верила матери, молилась богу, хотя потом плакала и кричала:
– Исть хочу!..
Жили: редким часом – с квасом, а другой порой – все с водой. Дед пошел побираться: может, бог даст, прокормится как-нибудь. Дома за пустой стол садиться не будет – и то хорошо. Ну, а ежели где помрет – и в том облегченье семейству сделает: не хоронить.
В иной семье, по голодному времени, родные рады были бы спихнуть заневестившуюся девку кому попало, выдать хоть за кого, но никто не зарился на даровую работницу, хотя она и согласна была каждому угодить, услужить, на работу вставать первой, а за стол садиться последней, да на стол-то ставить нечего.
Даже не верилось, что были времена, когда сами ходившим меж двор нищебродам куски подавали, богомольных странников привечали и, должно, никогда уж не будет возврата к таким хлебосольным дням.
Многим крестьянам надобно было уходить из своих деревень от неминучей голодной смерти, а куда уходить?..
Все равно – куда.
– Прощай, родная околица, оставайся лишь в горестной памяти о злосчастной судьбе.
Брошена изба, коевадни на своих плечах по бревнышку тебя мужик из лесу принес. Пропади все пропадом навсегда! К башкирам либо на Дон, либо в какие иные неведомые места подаваться надо в надежде повстречать где-нито вожака-атамана, чтобы с ним колыхнуть мятежом распроклятую эту жизнь.
Оставались опустевшими избы, сами, словно нищие, стоя при дороге, чтобы ветшать и рушиться на юру, на распутьях. Целые деревни поднимались с насиженных мест, и скитались люди по городам, откуда их, исхлестанных кнутом да батогами, выпроваживали обратно со строгим внушением, дабы они ни натощак, ни на заморенный живот не отважились в другой раз на подобные путешествия.
В городе оставаться нельзя, а и назад не дойти. Тощему брюху всякая дорога длинна, и лишь одно последнее слово в смертный час скажется: – Хлебца бы…
А в Петербурге начальство утверждало, что все разговоры о голоде порождались недоброжелательством врагов государства. Знай, мужик, подати подавай, где хочешь бери!
Повстречались мужики-бедолаги с земляком-нищебродом, водившим в поводу отощавшую лошадь, и удивились:
– У тебя коняга еще цела?
– Покуда цела, только ни ей, ни себе кормиться нечем. Вот по миру с ней и хожу, молюсь божьим угодникам: Флор – Лавер, лошадиные заступники, помогите…
Сердобольная баба подала коню с повети клок прошлогоднего сена.
– Спасибо тебе, – поклонился ей хозяин коня.
Ну а ты, мужик, ложись на обочину дороги да помирай. Тебе, бездольному, на погосте место не уготовлено, на могилу – запрет. Это в допрежние времена у каждой церквушки свой погост был. Добрел до нее, помер, – глядишь, тебя близ нее закопали бы. Но поскольку церквушки посередке селений ставлены, на торговых площадях, поблизости к людскому жилью, то царь-государь Петр Алексеевич незадолго до своей царской кончины строго-настрого запретил хоронить покойников на прицерковной земле, а велел закапывать их в отдаленности, на отведенных для того пустырях. Кладбище, погост, – словно бы острог для покойников на вековечные времена до второго пришествия, накрепко они там запрятаны, никто не достанет, не сыщет, но не всякому счастливилось захорониться в церковью освященной земле. Нельзя было там хоронить некрещеных, самоубийц и казненных преступников, а теперь вот и умирающий без покаяния нищий люд причастен к ним стал, и значило это, что бедному человеку неведомо, как преставиться на тот свет.