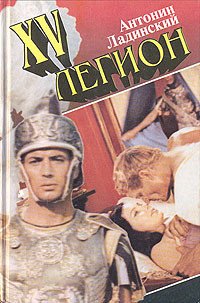В дни Каракаллы - Ладинский Антонин Петрович (читать книги онлайн бесплатно полностью без TXT) 📗
Стоявший с нами человек средних лет с небольшой круглой белокурой бородкой, пушистыми волосами, открывавшими высокий лоб, и очень редкими зубами (потом я узнал, что это был Гельвий Пертинакс, тот самый, что пустил гулять по Александрии шутку о титуле «Гетийский»), шептал важному толстяку в белоснежной тоге, которого поэт назвал Максимом Марием:
– А ведь похоже на то, что несчастного Фаста отравили!
– Что ты говоришь! – ужаснулся толстяк и схватился рукой за сердце.
– Думаю, что я не ошибаюсь, – продолжал Пертинакс, нисколько не стесняясь нашего присутствия.
– Для чего?
– Чтобы можно было удобнее сыграть роль Ахилла, погребающего своего друга Патрокла. Видишь, как плачет? А смерть Фаста для него что гибель мухи.
– Твое воображение не знает границ, – старался замять неприятный разговор Максим.
Но в это время послышался горестный голос императора:
– Пертинакс!
– Я здесь, благочестивый! – бросился к нему сплетник и подобострастно склонился перед августом, сжимая руки якобы от необыкновенного волнения.
– Какое горе посетило нас, Пертинакс!
Император припал к груди лицемерного друга, пряча лицо в складках его тоги, точно искал у него утешения. Пертинакс вызывающе повернул лицо в сторону императорских спутников, и по всему было видно, что он в эту минуту как бы опьянен своей неожиданной удачей. Все смотрели на счастливца с порицанием, и в глазах у многих можно было прочесть нескрываемую зависть.
– Меня утешает только одно соображение, благочестивый, – вкрадчиво сказал Пертинакс, позволив себе даже погладить императору плечо, чем окончательно вывел из себя своих завистников.
– Что тебя утешает? – Каракалла поднял голову, так как знал, что Пертинакс всегда найдет возможность сказать что-нибудь приятное.
– Эта сцена так напоминает погребение Ахиллом Патрокла, что можно теперь ждать нового расцвета республики.
– Почему?
– Я уверен, что мы все увидим вскоре второго Гомера, который воспоет твою славу.
– Ты великий льстец, – усмехнулся Каракалла.
Август оставил Пертинакса и рассеянно оглядел стоявших у костра. Его взгляд случайно упал на Вергилиана. Слова о новом Гомере еще звучали в его ушах. Он улыбнулся поэту и поманил его пальцем. Вергилиан выступил вперед, прижимая руку к сердцу, и все поспешно давали ему дорогу.
– И ты здесь? Рад видеть тебя, – сказал Каракалла, и его рот стал снова брезгливым. – Опиши в звучных стихах смерть любезного моему сердцу Фаста.
Вергилиан склонился в почтительном поклоне.
– Не премину это сделать.
– Да пошлют тебе музы вдохновение, – произнес август и отпустил поэта кивком головы.
Однако приблизился час возжигания погребального костра. Отвернувшись, как это положено по римскому обычаю, и закрыв лицо краем пурпурного плаща, накинутого на плечи, невзирая на жаркое александрийское солнце, император торжественным жестом поднес факел к костру. Благовонные смолы, которыми были политы куски кипарисового дерева, вспыхнули и пахнули на нас жаром почти невидимого при солнечном свете пламени. Где-то там, среди этой погребальной пышности, в море огня, лежал жалкий, разлагающийся труп нового Патрокла.
Я слышал, как Дион Кассий, к которому с такой иронией относился Вергилиан, сказал Марию, все так же надменно держа красивую голову и показывая глазами на Каракаллу:
– И мы еще должны благодарить судьбу, что такое ничтожество управляет судьбами республики!
Марий даже побледнел от страха.
– Что ты говоришь! Его планы обширны и дальновидны. Возьми хотя бы дарование римского гражданства всем провинциям. Или его помыслы об Индии…
– Все это совершается в ходе самой истории. Всякий другой поступил бы так же.
– Не говори, – вмешался в разговор Вергилиан, может быть, несколько польщенный вниманием августа. – Очевидно, кто-то должен носить пурпур, чтобы наша жизнь текла размеренно и мы могли спокойно спать. И вот император меняет коня на повозку, переносит все трудности военной жизни и водит дружбу с грубыми воинами. К пурпуру жадно протягивают руки честолюбцы, но, в конце концов, они выполняют ответственные обязанности. Огромная колесница, которая называется государством, требует для своего хода неимоверных усилий. Может быть, август хотел провести время в кругу близких или посвятить час отдохновения беседе с другом, но вестник приносит тревожное сообщение с парфянской границы, и надо лететь туда, не высыпаясь на коротких остановках, страдая от неимоверной тряски или дурной погоды. Уверяю тебя, Дион, что это далеко не завидная участь. Иногда я спрашиваю себя, почему безумцы так цепляются за власть…
– Ты забываешь, – вздохнул Дион, – что власть не только удовлетворение тщеславия, но и служение людям.
Марий остановил его предостерегающим взглядом. К нам приближался Макрин, всесильный префект претория и наушник императора. Друзья умолкли, стараясь изобразить на своих лицах интерес к погребению. Но Макрин даже не посмотрел в нашу сторону, а обратился к префекту Египта и стал выговаривать ему за то, что в последнее время корабли с египетской пшеницей приходят в Остию с большим запозданием, и это нарушает снабжение Рима хлебом. Об этом написали сенаторы, в отсутствие августа надзиравшие за порядком в Италии, и, стуча пальцем по письму, Макрин требовал от префекта принятия строгих мер. Вытирая платком струившийся с лица пот, может быть, от крайнего волнения, толстый префект уверял, что немедленно же сделает все необходимые распоряжения, и обещал примерно наказать нерадивых исполнителей императорских повелений.
Между тем костер разгорался. Люди смотрели на пламя, и каждый думал о своем. Коклатин Адвент, вероятно, о том, что скоро пробьет и его смертный час. А я лишний раз удивлялся своей судьбе, которая дала мне случай присутствовать при таких церемониях, хотя я был всего только бедным писцом и уроженцем мало чем примечательного города.
Потребовалось некоторое время для того, чтобы кипарисовое дерево превратилось в золу. Страдая от жары, люди нетерпеливо ждали, когда же можно будет собрать пепел Фаста в алебастровую урну и навсегда покончить со всем этим. Рабы в белых туниках с золотой каймой, как положено для императорских слуг, разносили в амфорах вино и подавали чаши, чтобы присутствующие могли утолить жажду. Дион Кассий сказал Марию:
– Еще хорошо, что вина поднесли… А помнишь, в Никомедии?.. Целый день стояли на ногах в ожидании августа, во рту пересохло, а мимо нас таскали мехи с вином для стражи.
Меня удивляло, что здесь говорят так свободно, не опасаясь императорских соглядатаев. Потом Вергилиан открыл мне, что слишком смелые высказывания объясняются раздражением против императора, основывающего свою власть на любви воинов и земледельцев, в то время как Дион и многие другие владельцы крупных поместий являются сторонниками восстановления древних привилегий сената.
Слышал я и другого рода разговоры. Ритор Умбрий, на которого Вергилиан указал мне как на тайного христианина, шептал другому римлянину, склонившему набок лысую голову:
– Жалкие предрассудки! К чему эти пышные погребения, фимиам, биение в перси? Мы собираемся почтить Фаста ристаниями, а он, может быть, уже горит в аду.
Костер угасал. Я вспомнил, как отец рассказывал мне, что в его стране покойника опускали в могилу и рядом клали горшок с пшеницей, чтобы он мог насытиться пищей и по ту сторону гроба, опоясывали мертвеца мечом, если он был воин, а потом пили перебродивший мед, плясали и боролись, чтобы показать, что жизнь на земле не прекращается, даже если один из нас покидает ее.
Ни в одном городе я не наблюдал такого трудолюбия, как в Александрии. Здесь все работают или торгуют, и даже безногие, однорукие и слепцы находят для себя какое-нибудь занятие, чтобы добывать пропитание. Поэтому среди александрийского населения много ремесленников и беспокойных людей всякого рода, и власти бдительно смотрят за тем, чтобы в городе не нарушалось спокойствие и ничто не мешало доставке пшеницы в Рим.