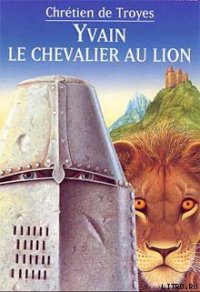Белый город (СИ) - Дубинин Антон (читать хорошую книгу txt) 📗
Жили и столовались они в доме у богатого константинопольского купца по имени Алексей; радушный хозяин (а попробуй тут не будь радушным, если император приказал!) до судорог боялся своих шумных и своевольных гостей, и потому вежливая белозубая улыбка почти не слезала с его лица. По-французски бедняга Алексей изъяснялся кое-как, с неимоверно смешным акцентом; мессир же Анри и его свита греческого не знали вовсе. Вообще в крестоносном стане бытовало убеждение, что незачем им, победоносным франкам, уметь лопотать по-здешнему — пускай греки сами приноравливаются к их речи! Но таковы были настроения знати, к коей юный Ален не принадлежал, и ему доставляло немалое удовольствие перехватить на лету словечко-другое на языке древней мудрости и потом щегольнуть им в речи. Все встреченные на пути греки казались ему потомками великих философов, приветливыми мудрецами, а кроме того — красавцами. Хозяин с улыбкой, которая чуть ли не сходилась концами у него на затылке, его прелестная дочка Лени с глазами как темные виноградины, и целая плеяда неразличимых меж собой кудрявых сыновей и работников вызывали у юноши самую живую симпатию. Поход не обманул ожиданий — он оказывался именно таким романтическим и веселым приключением, о каком можно только мечтать. Кроме того, у здешней жизни было еще одно достоинство: Ален почти не видел Жерара. Вдобавок, к своему великому облегчению, он не видел короля. Государь Луи жил со своей супругой и немногими приближенными в императорском дворце Филопатий, оказывая тем немалую честь властителю Мануилу и всему восточному миру.
С утра Ален сбегал по крутой каменной лесенке с коваными перилами, уже заранее улыбаясь всему, что встретится на пути. Дни в сентябре выдались необыкновенно теплые и солнечные, виноградники ломились под тяжестью наливных гроздей, и жизнь обещала своим любимцам все больше и больше беззаботных радостей.
— Хэритэ, кириэ, — весело поздоровался мальчик с кем-то из хозяйских сыновей, встреченным в дверях. От загорелого грека пахло солнцем, он был весь в белом, с закатанными по локоть рукавами. На заднем дворе давили виноград, оттуда доносились веселые женские возгласы.
Грек так и осклабился в ответ на приветствие, от белоснежных его зубов едва ли не брызнули солнечные зайчики.
— Доб-ра дэннь… месс-сир, — выговорил он, забавно коверкая слова — прекрасный потомок прекрасных язычников, поклонявшихся силе и красоте. Однако ж — христианин, восточный брат по вере, так бы и расцеловал доброго человека…
Мессиром Алена здесь называли часто. Во внутренние отношения графа и его свиты никто из греков носа совать не смел, а на лбу у Алена отнюдь не было написано, что он — простолюдин. На лбу его, честно говоря, по совершенно неизвестной причине было написано нечто противоположное: «Я — благородный юноша, может, даже принц», гласила эта надпись. И греки, немало преуспевающие в физиогномистике, часто приветствовали графского слугу учтивыми поклонами — на которые тот радостно и безмятежно отвечал, все более убеждаясь в греческом вежестве.
Пока мессир Анри проводил время во дворце, на празднествах и советах, Ален пользовался свободой, чтобы как следует посмотреть город. Сменив походный джюпон на яркие шелка геральдических цветов, он свободно расхаживал по улицам, вступал в разговоры, «пробовал» на рынке фрукты со всех лотков подряд — и к вечеру ему уже и покупать ничего не надо было, так он наедался. Ему нравились широкие, развевающиеся одежды знати, их полотняные цветные шапочки с шелковыми шнурками; нравился ему и обычай носить на поясе чернильницу — то самое, за что мессир Анри и другие бароны пренебрежительно называли греков изнеженной нацией писарей. Не будь он уверен, что мессиру Анри это не понравится, Ален бы с радостью переоделся под грека и на пояс подвесил чернильницу на цепочке… Юному любителю учености везде мерещилась высокая мудрость; будь он чуть более проницательным, ему столо бы неловко за собственных грубоватых соплеменников, тыкавших пальцами в книжного вида старцев, чинно беседующих на солнечных мостовых. В домах ему нравились легкие чаши с цветными ободками, и маленькие серебряные вилы, чтобы брать ими мясо, и богатые восточные ковры, которые не шли ни в какое сравнение с лиможскими тощими гобеленами. Даже в комнатке, которую он делил с остальными тремя слугами, был такой ковер — он лежал на полу, вот ведь неслыханная роскошь! — и Ален тайно от других слуг несколько раз по нему со вкусом покатался, дивясь, какой он мягкий и шелковистый, как молодая трава. Греческая еда тоже удивляла и радовала — икра, лягушки, артишоки, множество засахаренных фруктов… Нравились ему длинные прямые улицы, ведшие к маленьким площадям с портиками и фонтанами, и купола, и башни вдоль высокой стены… Заглянул он и на ипподром, полюбоваться на бронзовых коней из Александрии и на волчицу, вскормившую Ромула и Рема; и в Софийский собор — слегка боясь, не делает ли чего недозволенного, вторгаясь в область чужой, не признающей Папской власти церкви, — но все же любопытство взяло верх, и перед вечерней службой мальчик сунул нос внутрь огромного храма, которым раньше любовался только извне.
Служка, наводивший чистоту в правой галерее, глянул на любопытного франка неодобрительно, но турнуть непрошеного не посмел. Ален в жизни не видел более странной церкви. Воистину, чудо света, нечего сказать. Вот бы хоть один такой камушек из мозаики выковырнуть, он, наверно, жутко дорогой… Купола, например, поразили Аленово воображение еще снаружи, а уж изнутри… Главный купол, высоченный и огромный, как небесный свод (да и формы такой же), опоясанный вереницей полукруглых окон, производил, пожалуй, даже подавляющее впечатление. Эта громадина казалась, как ни странно, легкой — может быть, из-за того, что толстенные столбы главных арок стояли к центру ребром. Но храм был что-то слишком массивным, скорее попирающим землю своей мощью, чем стремящимся, подобно привычной готике, в небеса. Это тебе не Сен-Дени со своими витражами, вся пронизанная светом и цветом сверху донизу, с Древом Иессеевым и огромными, совсем живыми статуями, с арками длинных окон, указующих в высоту… А внутреннее убранство дома Госпожи Мудрости — мрамор и самоцветы, тут и там вспыхивавшие в камне колонн (это надо же додуматься, драгоценные камни и золото — прямо в стенах, да мозаичные картины, да золото кругом… Восток, одним словом — роскошь!) конечно, вызывало помимо легкого налета алчности еще и восхищение, но… Не собираясь дожидаться, пока явится кто поважнее, чтобы выставить наглого латинянина, Ален выставился сам. Тем более восточный храм его слегка подавлял своей чуждой красотою, и множества мозаичных икон, глядевших отовсюду, он тоже испугался. Ален не привык к такому стилю, и темные, высушенные, будто изможденные лица святых показались ему осуждающими. Ну что, пришел, чужак? Посмотрел? Ну и будет с тебя, шел бы ты отсюда… Ален и пошел, заглянув по дороге в пару-тройку других, менее властительных церквей и со всевозможным почтением поклонившись мощам нескольких неизвестных ему святых. Читать по-гречески он еще не умел, но возле одной раки все же разобрался, что данная нога принадлежит кому-то из апостолов — и обозрел белеющую кость с завистливым благоговением. Еще ему посчастливилось поцеловать ларец с самым настоящим зубом Иоанна Крестителя, а при виде Гвоздя из Истинного Креста мальчик не сдержал благочестивых слез. Чем вызвал благосклонность долгобородого костлявого священника, изначально явившегося приглядеть, как бы юный пилигрим не спер чего-нибудь ценного. Бывали, бывали в городе неприятности от франков: грубые варвары то и дело теряли голову при виде византийской роскоши. Как-то раз, например, солдат Тьерри Фландрского прогуливался по главной улице, меж ювелирных лавок и столов менял, и при виде груд золота не сдержал себя, с воплем кинулся сгребать деньги… Героя повесили, конечно — (к злорадному удовольствию мессира Анри, по личному приказу короля). А все-таки лучше с них глаз не спускать, мало ли чего.
Еще Ален свел что-то вроде дружбы с Лени, темноглазой хозяйской дочкой. Ему случилось за девушку вступиться, когда белобрысый слуга мессира Аламана пристал к ней в темном уголке; драться даже не пришлось — при виде нежеланного свидетеля, к тому же слуги самого графа, наглый Матье покраснел и ретировался. А Лени с тех пор то и дело дарила красивого, вполне себе грекообразного франка благосклонными взглядами, и однажды принесла ему сушеных засахаренных фруктов в глиняной чаше. Мессир Анри, заметив как-то раз их взаимные улыбки и перемигиванья, сурово погрозил Алену кулаком и приказал его «не позорить». Тот закивал поспешно, но дружбы своей не оставил — тем более что ничего позорного в ней не было. Жаль только, гречанка ни слова не понимала по-французски, а Аленов греческий продвигался довольно-таки плохо. В те дни ему слишком нравилось жить, чтобы сосредоточиться вниманием хоть на чем-нибудь, и потому с юной гречанкой они объяснялись по большей части жестами да улыбками. Он называл ее «кириа», она его — «мессир»; может быть, при таком положении дел он в конце концов влюбился бы в Лени — но случилось нечто, нарушившее спокойно-радостное течение Аленовских дней. Он попал на турнир.