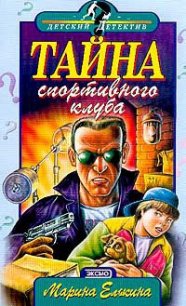Происхождение боли (СИ) - Февралева Ольга Валерьевна (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
— Но, допустив этот плеоназм, наш автор мог бы одарить меня почётным званием оруженосца. А так — я лишь банальный носильщик.
— То, что вы несёте, — воистину оружие, а коль скоро я дворянин, то сравнивать меня с рыцарем равносмысленно сравнению меня с человеком. Не нужно риторических аналогий. Я и есть рыцарь; вы и есть оруженосец.
Вступив на крыльцо чёрного входа (мало чем отличного от парадного), Макс предложил разделить ношу.
— Разделить уже не удастся: пути осталось слишком мало, но поднявшись только по этой лестнице с этим грузом, вы обнаружите несомненную тенденцию к справедливости, — изрёк Эмиль и поставил сумки наземь.
Макс, ежедневно вносивший на свой шестой этаж два ведра воды, ящик угля и пакет снеди, доставил весь багаж наверх без возмущений и передышек.
В квартире было тепло и уютно. Береника повесила всюду новые весёлые занавески, сменила скатерть, а теперь сидела у камина, где висел на крючке чайник, отчищенный и блестящий, как ёлочная игрушка, и дошивала платье для Полины из театральных обносков. Полина читала вслух талмуд Меллори; Жорж слушал её, попивая что-то из большой цветастой кружки. Эжен лежал на диване, босой, небритый и нечёсаный.
Возвратившихся встретили приветливо, тотчас дали им горячего чаю. Эмиль с Береникой расцеловались. Макса обняла дочь. Сын убежал к Эжену, протирающему глаз и бормочущему спросоня: «Привет-привет. Как всё прошло? Удачно?».
— Вот, — Макс кивнул на саквояжи.
— Бабки! — ликующе объявил Эмиль, облапляя Эжена и подводя его к сумкам.
— Сколько?
— Тысяча тысяч!
— Миллион? — Эжен показался удивлённым; он присел и бережно расстегнул замок одного из саквояжей, набитых пачками банковских билетов, — Франков?
— Да. Мы ещё там перевели в наши.
— Половина твоя, — произнёс Макс небрежно.
— Чья? — чуть не задохнулся Эмиль.
— Эжена.
— Ха! С какой радости!?
— Мы братья. Я ему обязан.
Простая чета и дети восхищённо смотрели на обретенное богатство; старший из аристократов казался величаво безразличным, младший — задумчивым.
— Что скажешь, Эжен?
— Я не хочу их брать. Во-первых, мне не ловко: я не считаю, что чем-то заслужит такой подарок. Во-вторых, мне не по себе: ты словно подкупаешь меня… В-третьих, даже если тебе ничего от меня за это не понадобится, дня через три ты смертельно оскорбишь меня вопросом, куда я дел весь этот ворох, поскольку, в-четвёртых, я лучше умею воскрешать мёртвых, чем беречь деньги.
— Ты отрекаешься от нашего союза в пользу бесхозных пятисот тысяч франков, или предложишь что-то третье? — сосмутничал Макс нервозно.
Эжен глянул на Эмиля, словно спрашивая у него, что может означат последняя реплика, но тот лишь развёл руками от вздёрнутых плеч.
— Если, — начал тогда Эжен, — ты предлагаешь, чтоб у нас была общая казна, я на стану спорить, но половинить — не по мне… Миллион — это целый миллион!.. По сравнению с ним пятьсот тысяч — это… это мало.
— Мало!!!?… — вскричал Эмиль. Эжен жестом призвал его к молчанию, продолжил:
— Разумней признать всю сумму нашей совместной и распоряжаться ею по-компаньонски.
— Вариант неплох, — устало ответил Макс, обводя пальцем край стакана, — Завтра утром представим и обсудим первоочередные расходы. Эмиль, Береника, ужасно сожалею, что не могу предложить вам ночлег…
— Ничего страшного. Мы и сами бы не остались. Можно я только попрошу у вас мелочи на дорогу? — с этими словами Эмиль выхватил из раскрытого саквояжа пачку банкнот, подкинул, поймал и прихлопнул, сунув в карман, — Собирайся, хани… Честь имеем.
Выходя, они впустили полночь.
Эжен увёл детей в спальню, где пробыл полчаса, давая побратиму спокойно приготовиться ко сну. Сам он, если бы не помешали, провалялся бы до утра там, где его застали. Укладываясь снова на оставшуюся кромку, он сказал негромко:
— Ты мне хоть три миллиона давай, а в свет я не вернусь.
— Если ты разумеешь свет, о котором года три тому назад тебе врали геройствующий уголовник и недалёкая кисейная львица, то туда ты точно не вернёшься. Забудь о нём навсегда. Его просто не существует… Ты не знаешь о свете ни малейшей доли истины.
— Да что ты! Хочешь втюхнуть мне свою концепцию? Ну, начинай.
— … Бог сказал: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог, что свет хорош.
Глава XX. Воспоминания Серого Жана
То, к чему с вечера готовился Люсьен, произошло поутру. От этого он, дремавший лицом в подушку, пробудился, но не подал вида из какого-то ленивого озорства. Ему было весело и легко. Ему нравилось ощущение скольжения внутри, чередующее пустоту с заполненностью, и запах розового масла… В какой-то миг ему захотелось кричать, но он набрал полный рот белого шёлка и сдержался. По окончании Серый Жан бережно укрыл его, сам оделся — глухо прошуршал серый халат; щёлкнула застёжка пояса — зелёной с серебряной искрой по коже амфисбены, целующей сему себя в губы на животе хозяина.
Люсьен приподнялся и посмотрел — серый денди стоял у оконной рамы, отогнув портьеру, заглядывал на улицу. Узкая размытая полоска неяркого утра высветляла его профиль. На нём нельзя было прочесть никакого чувства.
— Эй, — окликнул Люсьен, — Я люблю тебя, а ты что скажешь?
— … Можно я ничего не буду говорить?
— Нельзя! Ты должен мне исповедоваться! О чём ты думаешь сейчас? Выкладывай!
— Тебе это может не понравиться… Я вспоминаю о том, кого ты мне заменил…
— Отлично! Я давно хотел тебя об этом спросить! Ну, и кого ты осчастливил до меня?
— … Осчастливил… Странное существо. Такой худенький, сутулый — точно ему противен был его рост… Исчерна-серые всегда грустные глаза… На коже по всему телу — постоянно прыщи. На копчике пучок тёмных волос… Очень тугое колечко. Я старался не причинять ему боли, но он так всегда стонал… И до встречи со мной он был совершенно девственен…
— Что удивительного — при таком уродстве!
— О нет. Помнишь историю доктора Франкенштейна: он собирал своё создание из красивых черт и членов, но получилось безобразие, а тут всё обстояло иначе: по отдельности его черты — да — привлекательными не назвать, но вместе они составляли прелестный образ…
— И на какой помойке ты откопал это диво?
— Помойка была непозволительной роскошью для сына миллионера. Мы познакомились на каком-то банкете…
— Так он был богат!? Тогда странно… И где он теперь? Почему вы расстались?
— … Я неосторожно сказал о его матери. У нас была дуэль.
— … Ты его убил?… Неужели вы не могли помириться? Ты же сам был виноват!.. Ты же любил его!
— … Все губят тех, кого любят, — англичанин отошёл от окна; занавесь опять скрыла бледное начало ноябрьского дня, — … Он сам так пожелал… Отдыхай.
— … А что если я пойду в полицию и расскажу, кто такой полковник граф Франкессини?
— Пойдёшь — в чём? В простыне? босиком?
— Да!!!
— Простудишься.
— … Ты не боишься смерти?
— Я так часто думаю о ней, вижу, творю её… Нет.
— Не уходи. Расскажи ещё. Ведь у тебя их было много…
Серый Жан отошёл в самый тёмный угол, к обычному предлогу — книжному шкафу, у которого мог полчаса стоять, делая вид, что выбирает, водить пальцами по корешкам, выдвигать и задвигать тома — благовидный повод скрыть лицо.
— Кто тебя интересует?
— Тот, кто больше всех походил на меня.
— … Внешне вы почти антиподы. Он был миловиден, но смугл, черноглаз и весь в шерсти. На голове — густейшая грива, брови — как у филина, ресницы — как у жирафа и в три ряда.
— Достойный экземпляр! Что, тоже непорочный?
— О, в свои двадцать с минутами он изумил бы самого отъявленного сладострастника. Но при своей опытности он не знал пресыщения, любил и страдал, как ребёнок.
— Я до сих пор не услышал о чём-либо роднящим его со мной.
— А. Он тоже был поэтом и писателем.
— И только-то? Ладно, говори дальше, в каких ещё мелочах я схож с твоими знакомцами.