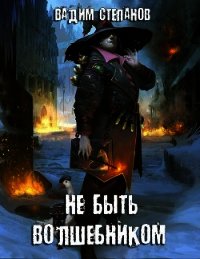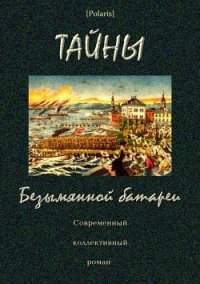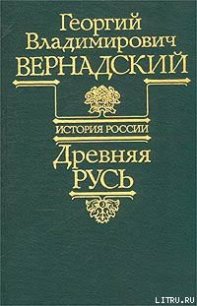Закат в крови (Роман) - Степанов Георгий Владимирович (читать полные книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Не суждено было сбыться этим честолюбивым замыслам! Буденный не стал ждать генералов, а неожиданно для них ударил главными силами своего корпуса по белоказачьим конным корпусам и отбросил их, а в последующих боях, взаимодействуя с частями красной пехоты, добил в районе Касторного их остатки.
Даже в белых газетах тогда замелькали сожаления, что в деникинской армии не было генералов, даже из числа окончивших академию Генерального штаба, которые бы управляли конницей так, как этот бывший вахмистр!
Болезнь — коварный палач. Казня человека, она исподволь убивает в нем волю к сопротивлению, с тем чтобы тот в конечном счете почувствовал себя глубоко приниженным перед ее величеством смертью.
Талант, знания, нравственные качества человека для болезни ничего не значат. Она обращается с больным, как со всякой земной тварью, без малейшего уважения.
В самых жестоких боях под Екатеринодаром и под Медведовской и прежде на фронтах империалистической войны Ивлев никогда не чувствовал себя таким жалким, как теперь, во время брюшного тифа.
Покоренный болезнью, он, казалось, разлагался, уменьшался, распадался на кусочки, сокращался духовно и телесно. Если бы болезнь теперь вдруг отпустила, он вряд ли сразу смог бы найти в себе силы, чтобы вновь идти к неизвестному горизонту.
Сергей Сергеевич уже больше не входил к нему в комнату. Он вообще уже не поднимался со смертного одра. Умирал медленно, тяжело. Последнее время даже большие дозы морфия не облегчали его страданий.
Особенно плохо ему было прошедшую ночь, а утром до слуха Ивлева дошли приглушенные рыдания Елены Николаевны, а несколько позже — чужие женские голоса.
— Ма-ма! Ма-ма! — закричал Ивлев, поняв, что в доме произошло нечто непоправимое.
В комнату вошла бледная, испуганная Маруся, в черном платье, со сбившимися на голове каштановыми волосами.
— Что с отцом? — спросил Ивлев.
— Дяде было очень плохо, — начала говорить Маруся и запнулась.
— Я слышу из гостиной незнакомые женские голоса… Что за возня там?
— Алеша, может быть, подать тебе чаю или молока?
— Ты не пытайся от меня ничего скрывать… Ведь он в последние недели не мог пить даже воду…
— Алеша, — всхлипнула Маруся и беспомощно опустилась в кресло подле кровати.
Ивлев порывисто сбросил с груди одеяло, приподнялся.
— Он зовет меня. Я должен проститься с ним…
Ивлев спустил с кровати голые ноги, собрался с силами, встал, но, прежде чем двоюродная сестра успела поддержать его, грохнулся плашмя на пол.
Из груди перепугавшейся Маруси раздался отчаянный вопль.
В комнату вбежала Прасковья Григорьевна и принялась помогать Марусе укладывать на кровать Алексея.
Отец был не только отцом, но и другом единомышленником.
Возле него, как вокруг могучего дуба, ветвилась семья.
Подле отца и слабая, убитая горем мать не была одинока.
В последние два года умерло много дорогих, близких людей.
После смерти Инны в семье зияла ничем не восполнимая брешь, и, однако, при отце ивлевский дом еще жил, еще был полон. А теперь, с уходом Сергея Сергеевича, осиротела Елена Николаевна, осиротел Ивлев, опустел дом…
В полдень в комнату, где лежал Ивлев, даже сквозь плотно прикрытые двери начал проникать панихидный запах ладана, говоривший о том, что в гостиную, где на большом обеденном столе лежал обмытый, одетый в черный костюм и крахмальную белую сорочку Сергей Сергеевич, пришли священнослужители, чтобы проводить усопшего в последний путь.
Все существо Ивлева переполнялось обостренным двойственным ощущением жизни и смерти.
Он глядел в окно, на пожелтевшую листву пирамидальных тополей, а видел Сергея Сергеевича на домашнем балу, в первой паре с Машей Разумовской, вспоминал пронизанный тревожной мутью февраль восемнадцатого года, тогдашний свой повышенный душевный строй и чувствовал, что Сергей Сергеевич, блистая лаком остроносых бальных туфель, уходил из дома навсегда, настойчиво увлекая за собой:
— Алексей, пошли, пошли! Помнишь, как в детстве ходил со мной? Дай я возьму тебя под руку… В период великой смуты — вся жизнь дурной сон. Звезды угасают. Но кто знает, быть может, угасают с тем, чтобы возродиться для новой плодотворной жизни. Великая отрада в смерти — уйти из жизни вместе со всеми своими земными идеалами. Не дай убить их вместе с собой. Движение вперед во всякой сфере требует своих жертв. Пошли, Алеша, пошли!
Когда хороним друзей, близких, любимых, то разве вместе с ними не предаем земле и самих себя, свои привязанности, радости, дружбу и счастье дружеских общений, не рвем живые нити, связывающие нас с теми, кто делал наше бытие полным?
И не весь ли земной путь даже и самых благополучных людей состоит из неизбежных и безвозвратных утрат, неуклонно ведущих к сиротству?
И эти люди, считающиеся счастливыми, в конце концов остаются без тех, кого любили, кто любил их в златую пору юности, когда дружба и любовь были высоко святы и глубоко скреплены неподдельной горячей искренностью.
А вдруг, пережив всех близких, родных, друзей, и ты придешь в глухую старость совсем один? Кто тогда поверит, что когда-то был молод, жил искрометной жизнью, любил и был любим, шагал в окружении целого сонма преданных и милых сверстников и единомышленников?
Еще несколько дней изнуряюще тянулась томительно-нудная болезнь.
Снова пришел проведать Однойко.
Как всегда немного сутулясь, он сидел у постели и растерянно-уныло бубнил:
— Мы верили в подснежники на кладбищенских тропах, а весна сменилась холодной осенью. Мы встречали тучи там, где ждали солнца.
Потом Однойко поднял голову и сказал:
— Добровольческая армия теперь уже повсюду отступает и настолько стала нераспорядительной, что Махно со своими бандами начал свободно разгуливать по всем районам Екатеринославской губернии, грабя и сжигая наши тыловые склады, парализуя важнейшие железнодорожные узлы. А на днях ворвался в Мариуполь и был всего в восьмидесяти верстах от Таганрога. Только с помощью бронепоездов, вызванных с фронта, удалось отогнать его от города, занимаемого деникинской Ставкой. Отогнали, а он ринулся в Екатеринослав, перебил там несколько сот офицеров, захватил орудия и снаряды.
Ивлев слушал друга и думал об отце. Оказывается, не зная, что болен раком пищевода, он до последнего часа терпеливо ждал исцеления. И даже в утро своей кончины, за несколько минут до смерти, когда вдруг на губах его появилась струйка крови, он поверил Елене Николаевне, сказавшей ему в утешение: «Ну вот, Сергей, теперь ты наконец начнешь поправляться. Кровь у тебя на губах потому, что прорвался нарыв в пищеводе». «Правда, Леночка?!» — искренне обрадовался он и, преодолев смертельную слабость, приподнялся и сел.
Елена Николаевна обвила рукой его исхудавшие плечи и отчетливо расслышала, как судорожно, из последних сил заколотилось сердце больного. Потом оно словно оборвалось.
Милый, родной, доверчивый! Сколько в тебе было размаха и таланта, жизнелюбия и большого человеческого сердца! Живя в другую эру, быть может, оставил бы на земле не одни особняки богарсуковых и никифораки. Тебе, архитектору зоркого глаза, широкой натуры, по плечу были дворцы, подобные кремлевским. Но, начиная с четырнадцатого года, ты жил кораблем с опущенными парусами, поставленным в затон екатеринодарского обывательского бытия, всегда убийственного для натур огромных возможностей и неистраченной энергии. И не тоска ли по большой творческой деятельности зародила узлы злокачественного рака?..
Однойко, заметив, что Ивлев плохо слушает его, умолк.
В комнату вошла Елена Николаевна и села у ног сына.
— Коля, — обратилась она к Однойко, — я знала, что Сергею Сергеевичу не подняться, и потому все внимание переключала на Алешу. А сейчас, когда выходила его, то чувствую себя бесконечно виноватой перед умершим. Почему я не настояла на операции?