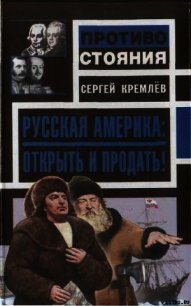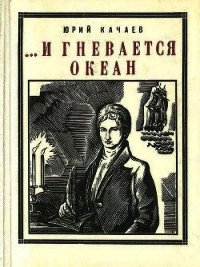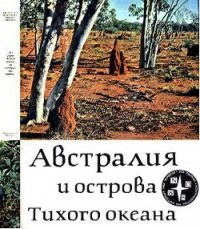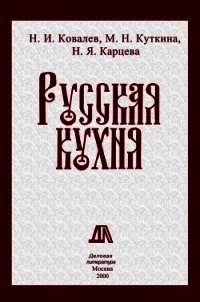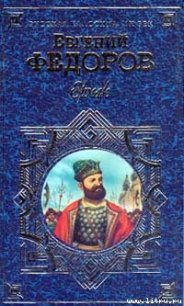Шелихов. Русская Америка - Федоров Юрий Иванович (читать онлайн полную книгу txt) 📗
— Ну вот тебя и пошлём. А?
Бочаров, бросив прутик, засмеялся:
— Что ж ты меня, Александр Андреевич, не жалеешь? Как дырка — так туда и ткнёшь.
— А кого иного пошлю? Портянку? Так у него голова разбита. Отлежаться надо. Да и видишь — не совладал он с лебедевдами. А ты, знаю, совладаешь. — Взмахнул рукой: — Совладаешь, точно.
Ввечеру в доме управителя вновь собрались те же, что и поутру. Не было только Тимофея. Он слёг.
Баранов начал с того, что направить следует на Алеуты Бочарова с большой ватагой. Заговорили было, что неплохо с ватажниками и коняг послать, но Баранов, подумав, возразил:
— Нет, — сказал, — коняг в это дело не будем путать. Сами разберёмся.
На том и порешили.
Через три дня (надо было спешить, на Алеутах оставались охотники из ватажки Тимофея) Бочаров на пятнадцати байдарах вышел из Чиннакского залива.
— Нет, нет, — сказала Наталья Алексеевна Шелихову, — одного в Иркутск я тебя не пущу.
Великое это дело для мужика, когда жене не только его успех, но и боль по плечу.
Наталья Алексеевна вышла на крыльцо, туго-натуго перевязанная пуховым платком, что и греет не хуже печи, и красит бабу, как весна берёзку. Конюх — на что грубый был мужик, облом обломом, — а взгляд задержал на хозяйке, засмотрелся. Да оно и любой засмотрелся бы: высока, стройна, свежа была Наталья Алексеевна. И необыкновенно цвели на её лице глаза. Не лукавили они, не было в них той стыдной жадности, что, как мёд пчелу, притягивает мужиков, а были они покойны, глубоки, и при всём том ликовало в них извечное, природой данное женское счастье — любить. Ан не кричали они, не манили, а несли в себе прекрасное это чувство так естественно, просто, как несёт сверкающую, тяжёлую каплю росы таёжный цветок разгорающимся утром.
Шелихов прилаживал в задку возка поклажу. Лицо было хмуро и жёлто. Наталья Алексеевна озабоченно оглядела его. Конюх перехватил её взгляд и понял: она при нужде и топор возьмёт, но обережёт мужа. Конюх шагнул к Шелихову, корявой рукой подхватил короб, что никак не могли приладить, сказал неожиданно мягко:
— Садись, садись. Я прилажу.
...Жеребец вынес из ворот так бойко, как ежели бы скакали на праздник.
В тайге вовсю распоряжалась осень.
Нет спору: красиво таёжное лето. Пышно цветёт золотая розга, пылают под щедрым солнцем жарки, нежнейшей зелёной опушью одеваются лиственницы, и трогательные, хрупкие кисти молодого игольчатого побега выбиваются на концах тяжёлых еловых лап. Тайга звенит от тугого, мощного гудения пчелы, пьянит сладким запахом плавящейся на солнце смолы сосняка. Но осень в тайге ещё более удивительная пора. Пожухнут, пригасят цвет травы, уймутся таёжные цветы, но сразу же после первых зазимков тайга озарится полыхающим пожаром красок необыкновенно преображённого листа. Глаз не успевает схватить богатство оттенков бушующей цветной метели. Осень в тайге пахнет горькой прелью того вина, что будит глубокие воспоминания и заставляет задуматься — зачем пришёл ты в этот мир.
Шелиховский возок бежал меж расступающихся деревьев. Григорий Иванович глядел на тайгу, на сидящую рядом Наталью Алексеевну и думал, что счастье ему привалило с ней. «За океан со мной ходила, — размышлял, — куда и не каждый мужик отважится пойти. На злых волнах качалась, зимовала в землянке под вой бесконечной пурги. И сейчас едет в Иркутск. А что там? Может, позор и яма долговая?» Хмурился, запахивал тулупчик. Мысли приходили разные. «Вот мужики баб бьют, бросают, иных ищут. Бьют от отчаяния, от зла на жизнь ломаную. А всё ведь, конечно, от своей слабости. Только от слабости. Там не смог, здесь не сделал, ну и... И бросают баб, — думал, — от слабости. Эта тяжела, считают, ан полегче найду. И детей бьют от слабости. У сильного они и без того и мягки и послушны».
Шелихов освободил руку, обнял Наталью Алексеевну. Она взглянула на него с благодарностью. Нет, не на подушке пришептала она своё счастье. Подушка, конечно, сладка, ан жизнь-то не одна сладость. Нет...
Иркутск неожиданно встретил Шелихова радостью. Примечено: коль шибко кручинишься — тебе обязательно облегчение выйдет. Трудно сказать, как это получается, но нужно думать — по природе выпадает, что человеку в случае крутом необходимо послабление, дабы не надорвался он и на остатнюю жизнь сил у него хватило.
Приехали, а наутро, чуть свет, чиновник из губернаторства постучался в дверь. Когда вошёл он в дом, Шелихов решил: «Ну, началось. Сейчас выложит горячих калачей, что не прожуёшь». Насупился. Но чиновник, поздоровавшись, назвал Григория Ивановича «почтеннейшим» и сообщил с поклоном, что его любезно ждут в губернаторстве.
Дальше пошло и вовсе удивительное.
В губернаторстве чиновник рангом повыше, чем утреннего, усадил Шелихова на стул, сам сел напротив и, приятно улыбаясь, сказал, что вопрос об участии компании в экспедиции в Японию решён благосклонно. Сложив умильно губы, выговорил с сердечными придыханиями: на то-де есть высшая воля императрицы. Глаза чиновника увлажнились, подчёркивая важность сообщённого.
— Вам, Григорий Иванович, — сказал он, прижимая холёную руку к груди, — следует встретиться с Эрихом Лаксманом, на которого возложена высокая честь осуществить последние приготовления к экспедиции.
Чиновник откинулся на спинку стула, внимательно поглядывая на Шелихова. Прикидывал — хитрая душа, — какое впечатление производят его слова на купца. Шелихов ждал, что будет дальше. Услышанное было лестно, но заковыка, и немалая, мешала осуществлению сего прожекта. Когда Шелихов добивался участия в экспедиции, компании денег было не занимать. Сейчас всё это становилось пустым, так как компанейская касса лишилась голиковского капитала, и ныне — куда там экспедиция — на хлеб новоземельцам не хватало. Нечем было покрыть долги.
Шелихов молчал.
Чиновник покойно сложил на коленях ладони, голову склонил к плечу. В глазах мелькнула догадка, заиграла чёртом в глубине: «Знаю, знаю, всё знаю». Да оно и не диво. О том, что Голиков капиталы из компании взял, знал в Иркутске и мальчишка в худой лавке. Такое в карман не спрячешь. Да Голиков Иван Ларионович, наверное сказать можно, вестей этих и не прятал. Во все колокола раззвонили новость по городу.
Чиновник принял руку с колен и, решив, что испытывать Шелихова хватит, сообщил и другое. Не прямо, но так, что ясно стало и из окольных слов, сказал о воле императорской проявить заботу о компании.
— Покровители ваши питербурхские великое благоволение вам оказывают. Счастливы вы, Григорий Иванович, в покровителях.
Перед Шелиховым встало властное, тяжёлое лицо Воронцова, глянули умные, усталые глаза Фёдора Фёдоровича Рябова. «Вот оно, откуда теплом потянуло, — подумал с радостью, — ай кстати, ай спасибо». И чиновник шелиховскую радость прочёл по его лицу, хотя тот не выдал чувства и малым движением. Глаза чиновника сделались задумчивы, затуманились, словно вдаль заглянули.
— Россия, — сказал он совсем иным тоном, чем прежде, — издревле не законами управлялась, но людьми. — Пожевал губами и протянул не то с огорчением, не то с раздумьем: — Людьми... В сём случае приняло это счастливый оборот. — И тут же, будто спохватившись, что сказал лишнее, прежним голосом сообщил: — Видеть вас желает его превосходительство губернатор.
Губернатор принял Шелихова тотчас.
К тому, что стало известно Григорию Ивановичу, губернатор добавил:
— О затруднениях компании — в связи с тем, что Голиков Иван Ларионович капиталы изъял из кассы, — знаю. Я соберу, однако, иркутских купцов и сообщу им о высочайшей воле иметь заботу о компании. — Глаза генерала строго округлились. — Убеждён, — голос его окреп и зазвучал не допускающей возражений твёрдостью, — платежи компании будут отсрочены и купечество откроет должный кредит.
Такого Шелихов даже и ожидать не смел.
Бочаров на месте шалашей ватажки на Алеутах нашёл кучи золы да обрывки горелых шкур. Ватажников не было. Постоял, тронул носком ботфортов торчащее из пепла топорище, увидел: топора нет на обгорелой рукояти. И уже внимательнее, в другой раз, оглядел стоянку: зло поваленные у костра рогатки для котла, в стороне порушенные шесты для сушки юколы... «Нет, — подумал, — непохоже, чтобы ватажники погорели. Зачем бы рогатки у костра ломать, шесты валить? Непохоже...»