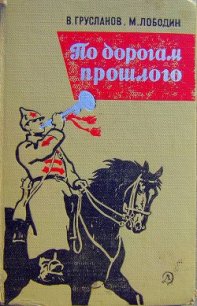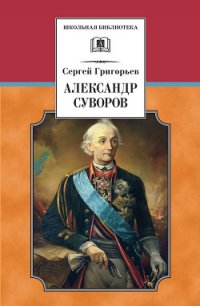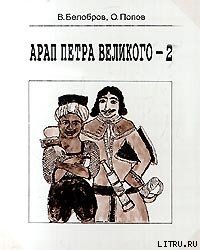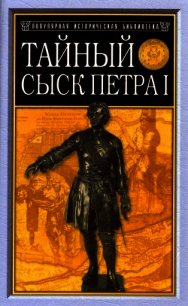Серебряные трубы (Рассказы) - Грусланов Владимир Николаевич (версия книг .txt) 📗
Случилось так, что в одном месте, совсем у Каменки, покос того помещика узким бережком забрел в самые земли Александра Васильевича. Сколько Суворов денег сулил за этот бережок, ничего не получалось, наотрез отказывал.
— Моя, говорит, земля! Что хочу, то и делаю!
Так через тот бережок с покосом он половину каменских мужиков чуть по миру не пустил. Что ни день, то конь, то корова, а то коза, нечистый ее забодай, забредут на покос душегуба. А он только и ждет того. Сейчас за расправу: «Плати за потраву, а не то скотину у себя оставлю».
Ворчат мужики, плачут бабы, а он ласково так приговаривает:
— А ты плати, православная душа, плати; дни стоят теплые, погожие, лошадка тебе нужнее, чем мне, и коровка нужна, молочка деткам надоить, напоить их, сироток горемычных.
Мужики скрипят от злости зубами, но платят, выхода нет.
Вот так, в одночасье, забрал он на своем покосе конягу отставного солдата. В гренадерах у Александра Васильевича Суворова ходил тот солдат, а теперь мужиковал — крестьянство вел, хлеб сеял, землей кормился. Одна коняга у него в хозяйстве, да он сам, да женка, да деток четверо, мал мала меньше.
Вызвал помещик солдата к себе, отчитал хорошенько и правит с него полтину за потраву.
— Не заплатишь завтра поутру, лошадь твою задержу до полной отработки, а тебя розгами отдеру, порядок, чтобы, значит, знал.
Солдату лошадь, ох, как нужна! Самый покос идет! А полтины нет!
— Ты, барин, отдери меня розгами, сделай такую божескую милость, а коня дай, покос на дворе. Откошу и тебе отработаю! — поклонился солдат барину.
— Сначала отработай, православная душа, а там коси на здоровье! — посмеивался барин. — Спину драть тебе все едино буду, не трави покос, доглядывай за скотиной.
Что тут делать? Ложись да помирай! Да на ту пору прослышал солдат, что в Кончанское село пожаловал сам батюшка, Александр Васильевич.
Недолго думал солдат, взял да и махнул в Кончанское.
Идет он полями, лугами, мимо озер, леса многоверстные позад себя кидает. Глядит: травы наливаются, колос колосится, полевой цветок синеет, головкой кивает, внизу, в траве, кузнечики чиркают, а в голубом небе — птица заливается: славит день да труд человеческий.
Тишь кругом, ни души, только ветерок шепнет словечко и смолкнет.
«До чего же хорошо на свете, — думает солдат, — а ты вот иди, правду ищи. Сколько воевал, сколько крови своей пролил за родную землю, сколько наград получил».
— Где же ты, правда? — спрашивает солдат у леса, у озера, у степной былинки. Но молчит лес, молчит озеро. Уснула былинка.
Шагает солдат, пот сквозь рубашку пробивается, ноги дрожат от усталости. Тяжело идти! Но тяжелее барскую неправду терпеть.
Шагает он. Вон уж Кончанское на холме раскинулось, а вот и двор фельдмаршала. Пришел солдат.
Видит, на крыльце камердин Суворова, Прохор Иванов Дубасов, сидит, семечки грызет.
— Прохор Иваныч! — шепнул солдат, — окажи милость, допусти к отцу родному.
— Нельзя! Александр Васильевич спать изволит.
— Скажи, старый солдат пришел, с жалобой!
Прохор Дубасов встал, сошел с крыльца и поглядел в покрытое морщинами лицо солдата.
— Эге, да ты, никак, наш? — потрепал Дубасов солдата по плечу.
— Ваш, Прохор Иваныч, Измаил вместе брали!
— Ты, брат, обожди малость! Александру Васильевичу пора вставать, пойду сбужу его.
С этими словами Прохор ушел в дом и скорым часом вернулся на крыльцо, пропуская вперед себя Суворова.
— Старый солдат, говоришь, пришел? Старого солдата, Проша, надо принять, чай, вместе воевали! — говорил тот, позевывая, и, взглянув в упор на солдата, выпалил:
— Да ты не из гренадеров ли моих будешь, кавалер?
— Так точно! Игнат Гренадеров, правофланговый второй роты Копорского полка! — отрапортовал солдат.
— Говори, Игнат, с чем пожаловал?
Так, мол, и так, обижают, отец родной, твоих чудо-богатырей, — не выдержал солдат — и все, что наболело у него, выложил тут, ничего не утаил.
Обомлел Александр Васильевич, зашелся весь от гнева.
— Проша! — кричит, — готовь коней, в гости поедем, в Каменку, к Кузьме Ерофеичу! А служивому запряги телегу, дай меру ржи и рубль деньгами.
Верный личарда Александра Васильевича, Прохор Дубасов, сверкнул на солдата глазами — знай, мол, наших! — и ушел исполнять приказ.
— Ты, служивый, — сказал солдату Суворов, — садись в телегу и езжай. Завтра утречком явись к барину на правёж. Я сам там буду! Понял?
— Понял, отец родной!
Солдат сел в телегу и, не веря глазам, зажав в кулаке серебряный рубль, погонял ладного конька, посматривая на мешок с рожью.
На утро Суворов вместе с Прохором нежданно-негаданно прискакал к соседу по Каменке.
Въехал он на своем скакуне на поросший травой двор, а барин правеж правит, с солдата полтину требует. Солдат стоит перед ним на коленях, лошадь свою выпрашивает.

Увидев Суворова, помещик от неожиданности и страха чуть не задохся. Он знал, Суворов не терпел неправды, не давал зря в обиду мужиков, особливо из своих отставных солдат.
А Суворов соскочил с коня, бросил Прохору поводья, подошел ближе, посмотрел на солдата и спросил его:
— Скажи-ка, кавалер, ты за Фокшаны в восемьдесят девятом году медалью пожалован?
— Пожалован!
— На Рымникском поле, в том же году, серебряный рубль за храбрость и геройство получил?
— Из твоих рук, Александр Васильич!
— Из моих, точно, помню! Герой! Илья Муромец! Добрыня Никитич! Русский! Под Измаилом турку вместе били?
— Вместе, батюшка Александра Васильич, вместе! — не то смеялся, не то плакал солдат. Слезы бесконечной чередой катились по его почерневшим на солнце морщинистым щекам и падали на землю с концов сивых усов…
— А медаль за это молодецкое дело имеешь?
— Как же, имею, в дому на рушнике в святом углу висит, вместе с той, что за Фокшаны дана.
— И тебя, богатыря, Илью Муромца, пороть!.. Да кто посмел! — разошелся фельдмаршал и сурово поглядел на барина.
Тот стоял, опустив голову и вытянув руки по швам.
— Как же ты, Кузьма Ерофеич, героя, что кровь проливал за родную землю, за твоих деток, как же ты собирался розгами?
— Черт попутал, ваше сиятельство! — лепетал барин, трясясь, как осиновый лист.
«Суворов не посчитается с тем, что он благородный, помещик, а возьмет да придумает такое, хоть в петлю после того лезь!» — мелькали в голове у барина недобрые мысли.
— Государыня-матушка, Екатерина Алексеевна, наградила солдата медалями за воинские подвиги, а ты!.. — гремел фельдмаршал.
— Прости меня, окаянного, Александр Васильевич! Засиделся я тут в лесах-болотах, словно медведь дикой, разум потерял.
— Встань, Игнат! Не для чего тебе перед барином на коленях стоять. Такой же ты человек, как и он! — приказал Суворов.
Игнат поднялся.
— А ты, Кузьма Ерофеич, — сказал, нахмурив брови, Суворов барину, — поднеси Игнату Гренадерову, солдату русской армии, чарку хмельного. И меня не обойди, сирого. С дорожки я поослаб, выпью чару вина за твое здравие. Давай, наливай!
Барин засуетился, замахал руками, закричал:
— Девки, где вы? Скорей кувшин с водой, рушник с петухами, чарки тащите сюда да сулею с вином. Живо!
— Ты не командуй, а сам, сам, Кузьма Ерофеич. Из твоих рук мы с героем по чарке примем.
Спустя минуту барин наливал две большие чарки.
Первую он поднес фельдмаршалу, низко кланяясь, изгибаясь дугой. Вторую — с мрачным видом сунул отставному солдату и сквозь зубы процедил:
— Пей!
— Во славу русского воинства! — подсказал барину Суворов.
— Во славу русского воинства! — угрюмо повторил помещик.
— Во здравие твое, Александр Васильевич, — опрокинул Игнат чарку и, крякнув, вытер сивые усы рукавом холстинной рубахи.
Так старинный сказ о Суворове стал нашим достоянием.