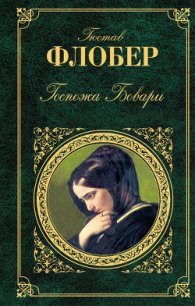Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читаем книги онлайн без регистрации .txt) 📗
И я его написал. Незамедлительно. И без всяких сомнений. То есть я сомневался во всем. Юридически вопрос заключался в следующем: в какой мере и внес ли вообще Октябрьский манифест парламентаризм в наш самодержавный строй. Сам манифест и введенные на его основании законы можно было толковать десятком способов. И, по существу, проблема состояла в том, какое толкование следует предпочесть, исходя из логики и честности. Какое толкование было бы правильным. Однако с политической или, скажем, патриотической точки зрения не было никакой возможности медлить или сомневаться. Мы были на краю катастрофы. Так что я сразу же написал наши объяснения, и Витте направил их Пуанкаре. Что компетенция правительства России в вопросе международных займов в результате введенных конституционных изменений нисколько не уменьшилась, следовательно, и наше домогательство займа во всех отношениях правомерно. И мы получили эти два с четвертью миллиарда франков. По поводу чего кое-где вскоре стали трепать языком, будто бы именно ими правительство задушило революцию. Но это было не так! По крайней мере, не только так! Благодаря этим деньгам правительство предотвратило голод! Да и вообще в мире не бывает ничего только так или только иначе, только нет или только да… И пули, которыми был расстрелян лейтенант Емельянов, еще не могли быть куплены на заем, полученный благодаря моей помощи. Но Иоханнесовы кандалы — да, они могли быть, те самые кандалы, для распилки которых я дал ему в уборной на Пярнуской станции напильник…
И все-таки слава богу, что эта маленькая красивая и смехотворная молоденькая женщина, сидящая здесь, в купе, не слышит моих мыслей…
Кати, но ты ведь их слышишь?! Ты ведь все равно их слышишь! И тебе я признаюсь.
Годами меня преследовало одно сновидение. Не каждую ночь, конечно. Но десятки раз, десятки ночей. А потом и дневные воспоминания, воспоминания уже наяву об этом сновидении. Я отдаю себе отчет: это не может быть ничем иным, как только отражением рокового похода корабля Рожественского [146]. Но мне кажется, что оно сопровождает меня с детства. Может быть, с моего первого, моего гамбургского детства. С виденных в гавани на Эльбе кораблей.
Я плыву на каком-то корабле. Я не понимаю, что это за корабль — парусник или пароход. Возможно, то одно, то другое. Я не знаю, как я оказался на борту. Но я там, причем где-то довольно высоко. Когда это парусник, то я на юте, когда же пароход, то, очевидно, на крыле ходового мостика. И море кругом местами черное, как чернила, местами белое, как молоко. В зависимости от того, висят ли над ним свинцовые тучи или падают на него в разрывах туч ослепительные солнечные лучи. И море вблизи и вдали заполнено такими же то парусниками, то пароходами. Кажется, что все корабли идут почти одним и тем же курсом. Но куда — этого я не знаю. Время от времени я вижу людей — матросов или пассажиров — на своем корабле или на кораблях у нас на траверзе. Я мог бы спросить моих спутников, куда мы движемся. Я мог бы крикнуть это в рупор на другие корабли. Потому что он у меня в руке. Но я не спрашиваю. Оттого что желание спросить я в себе подавляю, я испытываю странное, сладостное, мучительное напряжение. И я не спрашиваю. Потому что сомнамбулическим знанием я знаю: им это тоже неизвестно. И я знаю, что и капитаны в штурманских рубках позади рулевых, которым они указывают курс, и они не знают. Так что было бы просто смешно, просто глупо, просто неуместно кого-нибудь спрашивать. Кроме того, на это у меня нет и времени. Потому что в руках у меня рупор и я должен выполнить поручение. Я держу рупор у рта и поверх него смотрю на флот моего сновидения, состоящий из нескольких десятков кораблей: время от времени в боковых люках кораблей или на палубах вспыхивают искры и клубятся белые облачка дыма, а в бортах других кораблей появляются дыры, ломаются мачты и трубы разлетаются на куски. Временами мне кажется, что все совершенно беззвучно. А потом я слышу, как над морем катится грохот пушек и треск взрывов. Замутненным сознанием я понимаю: это отголоски порт-артурских, и цусимских, и свеаборгских разговоров (кто-то сказал недавно: «Какие летние ночи… И в небе над морем грозный грохот пушек…»). А потом я чувствую, как вибрирует корабельная палуба под моими ногами (я понимаю, что это узкоколейный поезд между Хяргмяэ и Валга. Или бог его знает, может, это почтовая карета на франкфуртской дороге или вообще земной шар), я чувствую, как она вибрирует от пушек, которые стреляют здесь же, у меня под ногами, как через меня перекатывается грохот — в то время как я держу у рта рупор с привкусом кисловатой меди и говорю в него: «Флот цивилизованных народов! Слушайте меня! Сын аудруского кистера и пярнуского портного, самый смекалистый ученик в петербургской лютеранской школе для бедных и полномочный представитель самого миролюбивого императора на свете — какая разница — Александра Второго, Александра Третьего или Четвертого — говорит вам: если мы действительно должны друг друга убивать, обстреливать и топить, то, ради бога, не иначе как с наиболее точным соблюдением норм морского права». Того самого права (думаю я при этом), которое по желанию моих сверхмиролюбивых императоров и большей частью в моем гибком и точном изложении предложено взять в основу ведения морской войны и которое с восторгом принято всеми цивилизованными государствами в Гааге, Женеве и Брюсселе и всеми ими же на всех градусах широты и долготы изо дня в день нарушаемо… «Но если мы, ведя войну, не убьем всех противников… — продолжаю я говорить в рупор, чувствуя, что меня начинает мутить от медного привкуса рупора, и ощущая, как движутся мои губы и мышцы лица, но из-за грохота пушек, из-за морского шума, из-за воя ветра конечно же ничего не слышно, да и говорю я довольно тихо, ибо кричать, учитывая смысл моих слов, недостойно, к тому же в этом столпотворении и крика моего не было бы слышно, но, поскольку моих слов ожидают, перейти на шепот или замолчать я не могу, — Так что если мы всех врагов не убьем, — говорю я неслышно в рупор, — а возьмем их в плен, то сделаем это гуманно! Дадим своим пленным хотя бы возможность увидеться с близкими — тем, у кого они есть и которые хотят оказать им поддержку, ибо пленным в их трудном положении такая поддержка по-человечески невероятно важна, это я твердо знаю по опыту многих лет собственного военного плена — со времен плена сиротской школы, потом гимназии и университета, по опыту бесконечной войны с бедностью, когда из года в год во всех школах мне приходилось просить об освобождении от платы за обучение, и я с чистой совестью мог писать: поскольку у меня нет ни имущества, ни близких, которые могли бы за меня заплатить, и нет профессоров, которые хотели бы за меня платить…»
Этого последнего я не писал, конечно. Но их ведь и не было. Хотя, возможно, могли бы найтись. Если бы гордость не мешала мне к кому-нибудь обратиться. Хотя бы к Ивановскому. Как многие годы бедные студенты обращаются ко мне. Кати, ты знаешь, я не был особым меценатом для них. При нашей относительной обеспеченности мне следовало бы больше жертвовать. (Кати, ты понимаешь, и я не скрываю этого, по крайней мере от тебя, — моя внезапная самокритичность не что иное, как вызванная страхом наивная ранне-христианская надежда: честность защищает человека от смерти.) Конечно, мне следовало бы быть щедрее. Но кое-кого я поддерживал. Особенно если мне казалось, что тому или иному свойственны черты, чем-то напоминающие меня самого в молодости. Как тот мальчуган из Военно-медицинской академии — как же его фамилия — сын раквереского или киевского сапожника… Правильно, когда подумал — сын сапожника, то вспомнил: Пуусепп его фамилия. Кати, а ты помнишь — он появился у нас впервые лет двенадцать назад. В мундире Военно-медицинской академии, на первый взгляд ничем не примечательный, небольшого роста пепельный блондин. Но если вглядеться в него поближе — упорный, как проволока. И жаждет признания. И в то же время не прочь покрасоваться. Помню, он вошел в мой кабинет и подал рекомендательное письмо, а когда я, разглядев под ним подпись Хирша, поднял глаза, чтобы предложить ему сесть — все-таки молодой человек, которого рекомендует царский лейб-медик, — то увидел, что он стоит у окна и машет кому-то, кто остался на Пантелеймоновской. Я подумал: ну и вертопрах, оставил свою девицу перед домом и флиртует с ней через окно, в то время когда я читаю рекомендацию…