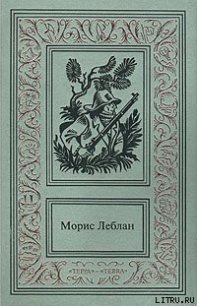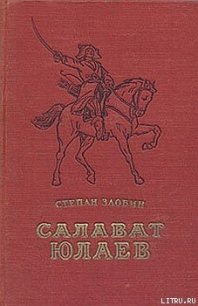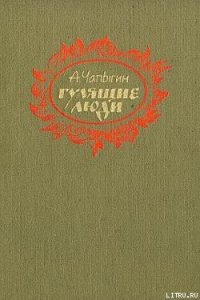Разин Степан - Чапыгин Алексей Павлович (читать полностью книгу без регистрации .txt) 📗
Лазунка было обрадовался своему, но, разглядев упрямое лицо со шрамом на лбу, признал Шпыня и насторожился: «На Москву батько его не посылал». Боярский сын, дойдя до ворот, тоже не полез в калитку.
Шпынь, не умевший таить злобу, крикнул:
– А ну-ка, вор, шагай!
– Чего попрекаешь? И ты таков! – Чувствуя опасность, он всегда старался быть особенно спокойным.
Шпынь, которого кормили, поили водкой от царя на постоялом, решил больше не показываться Разину.
– Я государев слуга!
«Смел, ядрен, да худче ему: упрям», – думал Лазунка, мысленно ощупывая под рукой пистолет.
– С каких пор царев? Лжешь!
– Тебе в том мало дела!
– Лезь первой! Ты нашему делу вор!
– Гей, стрельцы! Разин…
– Сшибся, черт!.. – Лазунка шагнул к Шпыню.
Бухнуло… Шпынь упал, не успев выдернуть клинка, мотался на черной земле. Звенело в ушах, усы трещали от огня пистолета, изо рта текло. Казак одеревенело цеплялся руками за брусья калитки. Пока жило сознание, в голове стучало: «Не бит! Бит…» С окровавленным, черным от мрака лицом, Шпынь откинулся навзничь в грязь. Правая рука не выпускала сабли, левая тянулась к калитке. Исчезая в ночи, Лазунка, щупая на ходу пистолет, думал:
«Сплошал… Мелок пал в руку пистоль – изживет, поди, сволочь».
Возвращаться к Шпыню было некогда. Из веселого домика вышли под руку (женщина и) высокий военный в мутно желтеющем шишаке, сбоку сверкали ножны шпаги, на черном мундире желтели пуговицы. В пятнах огней из окон женщина казалась пестро одетой. Обходя Шпыня, крикнула:
– Ach, mein Gott!.. Was ist das? [334]
– Nichts schreckliches, liebees Fraulein! Der Dragoner hat sich seine Fratze verdorben… der Besoffene. Die Russen sind anders als wir… sie sind feig… und fluchten sich vor dem Krieg in die Walder oder walzen sich trunken und zeihen Hiebe und Kerker dem Kriege vor. [335]
– Er hat, Kapitan, einen Sabel in der Hand? [336]
– Auch das ist erklarlich! Die Russen, wenn besoffen, sehen neckende Teufel um sich springen… verfolgen die Teufel, und wenn der Besoffene Dragoner oder Reiter ist, dann haut er mit dem Sabel auf Tische und Banke los, bis er hinfallt, wo er steht. [337]
– Ach, die Aermsten! [338]
– Liebes Fraulein, nur kein Mitleid mit den Bestien… dieses Volk ist dumm, faul und grausam… [339]
Черный капитан увел в тьму улицы за ворота свою подругу.
Астрахань
1
На крыльце часовни Троицкого монастыря Разин сидит с есаулами, пьет. На площади кремля-города только что кончилась расправа с дворянами, детьми боярскими и подьячими: били ослопами [340], прикладами мушкетов, бердышами. От раннего солнца в кровавых лужах белые отблески. Площадь дымится неубранными телами убитых. У раската лежит сброшенный Разиным с вышины воевода Прозоровский Иван. Князь раскинул руки, посеребренный колонтарь в крови, часть головы князя в мисюрке-шапке отскочила далеко в сторону, из-под бровей тусклые глаза вытаращены на солнце. Разин в черном бархатном кафтане, подпоясан синим кушаком с кистями, на кушаке сабля; на голове красная запорожская шапка с жемчугами. Стрельцы приносят и ставят на широкое крыльцо часовни бочонки с водкой:
– Пей, батько!
– Здоров будь, Степан Тимофеевич!
Недалеко от собора женский плач. Женщины в киках жемчужных, иные в бархатных с золотом повязках, то в волосниках, унизанных лалами и венисами. Все они у стены собора лежали, стояли, иные сидели рядом со старыми боярынями, устремившими глаза в небо. Старухи шептали не то заговоры, не то молитвы.
За распахнутой дверью, за спинами атамана и есаулов, в глубине часовни, у мощей Кирилла два древних молчальника-монаха в клобуках с крестами и черепами белыми, вышитыми по черному, в ногах и головах преподобного зажигали свечи в высоких подсвечниках; монахи, крестясь, были спокойны, медлительны и глубоко равнодушны к тому, что творилось за стенами часовни. Держа серебряную чашу в руке, Разин поднял голову, левой, свободной рукой двинул на голове шапку, крикнул стрельцам и казакам:
– Гей, соколы! Кончи бить, волочи битых в одну яму на двор Троецкого да сыщите в монастыре моего посла-попа, кому брошенный с раската воевода забил перед приходом нашим на Астрахань в рот кляп и в поруб кинул!
– Троецкой поп, батько, жив! С тюрьмы его монахи, убоясь, спустили, когда ты в город шел.
– Добро!
Подошел стрелец, лицо и руки в крови.
– Битых, батько, мы волочим в Троецкой, да там над ямой стоит старичище монастырской, битым ведет чет – то ладно ли?
– Наших дел не таимся! Занятно старцу, пущай запишет, кого поминать. А ну, Чикмаз, пьем!
– Пьем, батько!.. Ладно справились… Почаще бы так дворян да подьячих!
– Пущай им памятна Астрахань за отца Тимошу да брата Ивана… Гей, соколы! Кто есть дьяки, те, что с народа не крали… Коли таковые приказные есть, зовите ко мне!
Трое дьяков в синих долгополых кафтанах подошли к часовне, сняли шапки.
– Дьяки?
Пришедшие закланялись:
– Мы дьяки, атаман-батько!
– Садитесь на свои места в приказной избе. Ведайте счет напойной казне, приказывайте на кружечном курить вино, готовить меды хмельные… В Ямгурчееве-городке, когда казаки раздуванят товары и рухлядь, а мое, атаманское, отделят прочь, мой дуван опишите, и пусть снесут в анбары… После того перепишите людей градских, кто целоможен [341] и гож к оружию… Перепишите домы тех, с виноградниками и погребами, кто бит. Учтите хлеб на житном дворе и харч, да торговлей ведайте, верите на меня всякую тамгу!
– Чуем, атаман!
– Готовы все справить!
Дьяки поклонились, радостные, крестясь, торопились уйти из кремля.
– Еще, соколы, закрыть все ворота в городе, оставить трои – Никольские, Красные – в кремль и в город отворить Горюнские, кабацкие. Пущай горюны на кабаки идут по-старому… Гей, Федько-самарец!
– Чую, Степан Тимофеевич!
– Поди с дьяками! Учти напойную казну, сыщи прежних голов кабацких и целовальников – опознай, кто расхитил что, того к ответу. Замест их стань кабацким головой. А кои целовальники честными скажутся, тех приставь к прежнему делу.
– Будет так, атаман!
Черноусый есаул-самарец, поклонясь, ушел.
Стучали топоры на площади, таскали бревна. Плотники мастерили виселицы – вкапывали бревна торцами в землю; верхний торец, похожий на большой глаголь, делался с перекладиной. Привели к атаману переодетого в нанковый синий кафтан, избитого любимца воеводы, подьячего Петра Алексеева, без шапки. Рыжевато-русые волосы приказного взъерошены, лицо в слезах.
– Вот, батько, доводчик воеводы, казной его ведал.
– Ты есть Петр Алексеев?
Подьячий дрожал, пока говорил:
– Я, атаман-батюшка, ась, не Петр, я Алексей… С чего-то так меня дьяки кликали, и воевода по ним – Петр да Петр, а я Алексей!
– Где казна воеводина?
– У воеводы, ась, никоей казны не было – отослана государю… Стрельцам – и тем жалованное митрополит платил вон ту, на дворе Троецком…
– Я твою рожу в моем стану видал, а был ты тогда в стрельцах – помнишь Жареные Бугры?
– Помню, атаман, ась, чего таить!.. Я человек подневольный, в какую, бывало, службу воевода сунет – в ту и лез…
– А помнишь ли подьячих, они мне служили, ты их хотел в пытошную наладить, да сбегли в казаки?
– Это Митька с Васькой, ась, так они путаные робята и негожи были в подьячие, едино что по упорству воеводы сидели – грамотой оба востры, да ум ихний ребячий есть.
334
Ах боже мой!.. Что это?
335
Ничего ужасного, дорогая фрейлейн! Драгун испортил рожу, пьяный. Русские не то, что мы: они трусы и от войны бегут в леса или валяются хмельные, ждут побоев и тюрьмы, чтобы не идти в поход.
336
У него, капитан, сабля в руке?
337
О, я объясню и это! В пьяном сне русские видят черта, он их злит, они гоняются за ним, и если драгун или рейтар пьяны, то в бреду рубят столы, скамьи, пока не свалятся куда пришлось.
338
Ах, несчастные!
339
Дорогая фрейлейн, скоты не стоят сожаления – это глупый, ленивый и жестокий народ.
340
Палками.
341
Здоров, крепок.