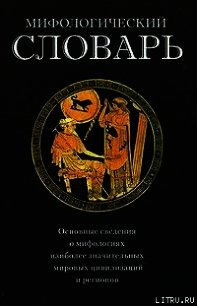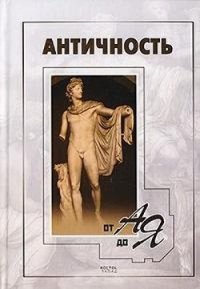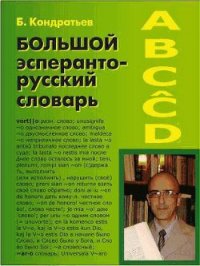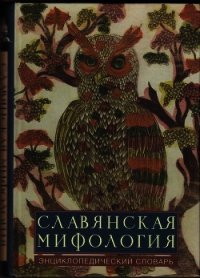К морю Хвалисскому (СИ) - Токарева Оксана "Белый лев" (библиотека электронных книг .TXT) 📗
До этого мгновения в Тороповом сердце тлела слабая надежда, что отец Артемий и новгородцы что-то неверно поняли, и казнить будут кого-нибудь другого (чай хазары всех выходцев из северных и западных земель руссами называют). Однако единственного взгляда на приговоренного, опутанного стальными оковами и сопровождаемого свирепой стражей, достало, чтобы она улетучилась.
Проведи мерянин на одной скамье с Лютобором меньше времени, он, вряд ли, сумел бы его узнать. Одежда наставника превратилась в лохмотья и такими же ошметками и кровавыми клоками свисали с тела местами кожа и живое мясо. Следы каленого железа перемежались с полосами, оставленными плетью, не менее многочисленными отметинами от сабельных ударов и гноящимися стреляными ранами. На левой половине лица, лопаясь водяным пузырями, расплывался обширный ожог, затрагивавший веко и бровь, а на правом плече, сочась кровью, окрашиваясь багровыми сгустками, пламенело соколиное знамя. Палачи начертили его острым ножом, а затем содрали по живому кожу.
Торопу вспомнилась ночь, проведенная в клети возле булгарской мескиты, песня про древнего вождя Буса и зарок, который дал наставник богам. Боги даровали ему удачу и теперь требовали расплаты. Его уже дважды распяли: сначала на дыбе, потом на раскаленной жаровне. И вот теперь его ждал позорный деревянный конь, которому не терпелось испить его кровь.
А и кому нужны такие боги, только и знающие, как получать мзду! Тороп подумал о единственном Боге, который ничего не требовал, кроме искренней любви. «Ты, прошедший через распятие, хотя могущество Твое безгранично! Ты, воскресивший Лазаря и даровавший разбойнику благоразумному место в Царствии Твоем! Не оставь своим покровом, защити, помоги! Услышь мя, и я отрекусь от веры отцов и стану восхвалять лишь одно имя Твое, славное и ныне, и присно, и во веки веков!»
Тороп бросил взгляд на Мураву, поглядеть какую молитву творит она, и дыхание в нем прервалось… Девушки рядом не оказалось! В смятении мерянин обшаривал взглядом толпу, не в силах нигде ее обнаружить. Мысли в голове путались в бесформенный клубок, словно змеи в яме…
Тем временем процессия медленно продвигалась к своей страшной цели. Наставник поднимался на помост. Хотя он двигался только чудовищным напряжением своей несгибаемой воли, не позволявшей ему даже в последний час проявлять перед ненавистными хазарами слабость, было видно, что палачи и конвой его боятся. Не спуская глаз с приговоренного, они, тем не менее, шагали чуть поодаль, держа наготове оружие.
Оказавшись наверху, бледнее смерти, судорожно хватая воздух разорванным ртом, Лютобор окинул взглядом толпу, собравшуюся поглазеть, как он будет умирать. Кого он искал, Бог весть! Может товарищей новгородцев, не успевших прийти на помощь, может братьев руссов или степняков, может еще кого…
И в этот миг над толпой раздался крик:
— Лютобор! Любимый!!!
Торопу всегда казалось, что боярышню привязывают к земле крепкие путы, сплетенные из строгого девического обычая, долга перед отцом и Богом, памятью славных предков. Разорви их, отбрось, и забудет девица тягу земную, расправит лебяжьи крылья и, разгоняя воздушные струи, вознесется к небесам. Сегодня путы не выдержали (куда уж им, когда рвутся жилы в груди), и, сберегаемые в потаенных глубинах души слова, слова, которые, раздираемая тяжестью выбора между зовом сердца и велением веры красавица не смела доверить устам, вырвались на свободу:
— Лютобор! Любимый! Я здесь!
Разомкнув железную цепь окруживших помост аль арсиев, Мурава, как это ей не раз уже случалось, ворвалась в круг, который начертила возле обреченного смерть…
Русс медленно, как во сне, повернул голову, и в его налитых кровью, заплывших багровыми синяками глазах зажглись мириады солнц.
В этот миг стало ясно, почему с опаской держались в стороне трусливые палачи, почему не решались поднять на него древки пик конвоиры, отчего хмурили брови суровые аль арсии. Лютобор повел могучими плечами, и его стражи полетели по помосту в разные стороны, и упали железные оковы, которые хотел расклепать, да не успел кузнец. Волоча на себе нескольких особенно упрямых тюремщиков и обрывки цепи, воин шагнул к краю помоста:
— Муравушка! Родимая!
Казалось еще миг, и руки его встретятся с руками возлюбленной, и сбудется то, о чем пели сказители и бахари говорили. Падут стены ненавистного града, стаями черного воронья разлетится прочь свирепая стража, скользкими гадами попрячутся в щели жестокие палачи, и на речном берегу под сводами пышных садов останутся только двое: Он и Она…
Но жизнь редко считается с тем, что сказывают про нее в баснях и песнях. Мурава только коснулась своего воина, единственного, которого она любила, кончиками тонких пальцев, а на него уже навалились гурьбой, насели со всех сторон аль арсии и тюремщики. В ход пошли кулаки, сапоги, древки пик. Кто-то ударил его ребром одетой в железную рукавицу ладони по шее, и голова его поникла. С него сорвали одежду и швырнули на позорное деревянное седло. И хищные руки аль арсиев потянулись к Мураве.
Тут уж Тороп не дремал. Не для того он помог хозяйке улизнуть из-под носа поганого Булан бея, чтобы отдать ее на глумление хазарским наемникам и рабам. Врезав кому-то по зубам, ободрав руку о чье-то стальное запястье, он подхватил боярышню и утащил ее обратно в толпу.
И в это время в наступившей тишине раздались сухие и гулкие удары молота, вгоняющего в дерево гвозди. Больше никаких звуков с помоста не доносилось. Только шмыгал разбитым носом какой-то прыщавый молодой страж. Тороп стоял, крепко прижав к себе Мураву, чувствуя, как судорожно сведенные зубы девушки впиваются ему в плечо.
***
Толпа немного постояла и начала потихоньку расходиться. Самое интересное уже закончилось. Любители споров бились об заклад, сколько проживет теперь приговоренный.
— Да сколько, сколько, — махнул рукой какой-то худощавый, узкоплечий ремесленник. — Небось, и до полуночи не дотянет! Ты же видел, на нем и так уже живого места нет.
— Да брось ты! — хлопнул его по плечу товарищ, весь черный, не то от копоти, не то от солнца. Это же русс! Они, знаешь, какие живучие! Говорят, двадцать лет назад, когда казнили тех, вернувшихся из Бердаа, один целых три дня протянул!
Тороп стиснул пальцами плечи Муравы. Ох, Белен, Белен! Хазарский прихлебатель! Ради того, чтобы поквитаться с «татем лесным» за пустяшную, в общем-то, обиду, не только душу свою погубил, над памятью отцовой надругался. Кто знает, не Тверд ли это Сытенич корчился на этой площади в муках три бесконечных дня.
Мерянин поглядел на помост. Там, куда не достигала тень от стен, зной был всего невыносимее. На грубых лицах закованных в броню аль арсиев крупными каплями выступил пот. А каково это, когда палящие лучи лижут нагое беззащитное тело, пекут свежие раны! И немилосерднее солнца над площадью кружились привлеченные запахом крови рои беспощадных мух. Сегодня им есть, чем насытить голод.
Аль арсии сомкнули ряды. Теперь за оцепление ни пешему, ни конному не пробраться. Тороп заскрежетал зубами, коря себя за глупость и неповоротливость. Почему он не поспел следом за Муравой. Чай на этот раз за пазухой лежал старый добрый нож. Хотя точили его ради другого дела, а наставнику он бы сослужил последнюю службу!
Вспомнился рассказ отца Луки о земной жизни Белого Бога, о последних часах, проведенных Им на этой земле и о подвиге Спасения. Ему ведь тоже никто тогда на помощь не пришел! И у подножия креста, кроме нескольких оставшихся верными женщин, стояли только мать и любимый ученик.
Что ж, Мурава тоже вряд ли куда-то уйдет, даже если придется стоять ни день, ни три, а трижды три, или тридцать. И худо будет тому, кто попробует ее увести, или прогнать.
***
С помоста спустились палачи и тюремщики. Вид они имели помятый и потому глядели не особо довольно.
— Ух, зараза! — прогнусавил прыщавый молокосос, прижимая к разбитому носу медный дирхем. — Прыткий какой оказался! Видать мало его пытали! Едва не убег!