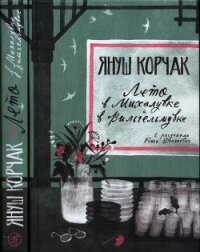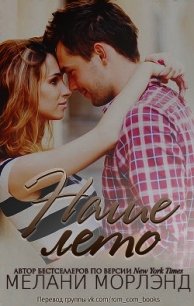Остенде. 1936 год: лето дружбы и печали. Последнее безмятежное лето перед Второй мировой - Вайдерманн Фолькер
В один прекрасный день Эгонек предлагает ей поехать с ними в Остенде. В Café Flore. «Хочу тебя кое с кем познакомить».
Они едут в трамвае. По набережной снуют курортники, дети в ярких шапочках, солнце, легкая жизнь. Они сидят в Café Flore в тени под навесом, глядя на пляж, заказывают аперитив, когда появляются двое. Один – в светлом костюме, жилете с галстуком, с аккуратно подстриженными усами, густой шевелюрой, темными быстрыми глазами; сама уверенность, галантность, прямая спина, этакий элегантный крот в воскресном сюртуке. Следом за ним – невысокий сутуловатый господин в темном пиджаке, узких офицерских брюках, с заметно выпирающим брюшком, галстуком-бабочкой в полоску, хохолком на лбу, нависающими над верхней губой светлыми усищами и слегка раскачивающейся походкой. Печальный тюлень, потерявшийся на суше. Эгон Эрвин Киш и Гизела встречают дружным смехом господина в светлом костюме и представляют его Ирмгард Койн: Стефан Цвейг. Не без робости она протягивает ему руку. В это время Киш подбегает к покачивающемуся тюленю и хлопает что есть силы по спине. «Как? Без короны? Без горностая? Что случилось, старый габсбургский еврей?» – приветствует он, светясь от радости. «Очень смешно, старый большевистский еврей», – раздается в ответ рокочущий смех. Киш, с сигаретой в уголке рта и эйфорией в глазах, начинает общий разговор, прерывая явно затянувшийся обмен любезностями между Цвейгом и Койн, чтобы ускорить сближение и этих двоих. Они дружелюбно пожимают друг другу руки, и Ирмгард Койн видит белые, нежные руки, выступающие из черных рукавов, видит светлые, с бахромой усы, пепел на жилете. «Моя кожа сразу же сказала “да”», – напишет она позднее. Она смотрит на него, в его голубые глаза, замечает плохие зубы, которые он старается скрыть под усами, и его печаль. «Тогда, в Остенде, когда я впервые увидела Йозефа Рота, у меня возникло ощущение, будто передо мной человек, который просто умрет от печали в ближайшие часы. Его круглые голубые глаза были почти безжизненны от отчаяния, а голос звучал так, словно придушенный горем. Потом это впечатление развеялось, поскольку Рот был тогда не только печальным, но и непревзойденным и блистательным мизантропом».
Эти двое в тот вечер затерялись посреди их небольшой компании. Не церемонясь, Рот усаживает ее рядом с собой. Он недоверчив. Она не еврейка, он ее не знает, не прочитал ни одной ее книги. Почему она здесь? Из отвращения к стране, народу, власти, – говорит она. Вот как. А почему только сейчас эмигрировала? Она рассказывает о муже, о матери, о еврейском любовнике в Америке. Рот не спешит верить. Не потому, что считает ее осведомителем. Просто он не может согласиться с ее решением приехать именно теперь. Эмиграция не допускает колебаний, двусмысленности и промедления. Конечно, она произвела на него впечатление. Ведь, не будучи еврейкой, она по своей воле все бросила. И боролась с немецкими властями. Всем сердцем их ненавидя. Чем дольше она говорит, тем более спокойно и жадно он слушает. О Германии, о тамошней жизни, о Берлине. Он не был там три с половиной года. Он хочет знать все.
А ей по душе его любопытство, его внимание к подробностям и широкий взгляд, его расспросы и быстрые, язвительные, всегда неожиданные, точные суждения. Она читала его «Иова», «Марш Радецкого», была очень высокого мнения о них и поражена тем, что в беседе он такой же великолепный, если не лучше, рассказчик, как в своих книгах. Никто не знает, какие из его историй вымышлены, какие реальны. Ему просто нравится рассказывать, особенно вот этой загорелой Ирмгард Койн, которую привел с собой старый Киш. Позже она признается, что ни до, ни после не встречала человека, столь сексуально притягательного, как Йозеф Рот. Каким он был вечером того дня в Café Flore. Она пошла бы за ним куда угодно, не медля ни секунды. Только бы слушать и говорить. Быть с ним. И пить.
Это еще одна общая черта, которая их мгновенно сблизила. Они тотчас же поняли, что оба – опытные выпивохи, художники застолья и виртуозы по части обоснования, почему для того, чтобы жить и творить, необходимо пить. «Откроешь газету, и таким идиотизмом покажется тебе то, что ты вообще еще пишешь», – сообщает Ирмгард Койн Арнольду Штраусу, давая понять, что выпивка – это дело принципа. «Если хочешь писать, нужно подавить саму мысль, само знание о грядущем потопе, войне и т. д. Иначе ничего не напишешь. Вот почему нужен алкоголь. Важно только пить правильно и с умом. Профессия художника непоправимо, неотвратимо зависит от расположения духа».
Наконец-то есть тот, кто тебя понимает. Думает Рот. Думает Койн. Есть тот, с кем можно пить вволю, кто знает, что это единственный способ не погибнуть, что воздержание, быть может, и продлевает жизнь в отдаленной перспективе, но здесь и сейчас делает ее совершенно невозможной. К тому же тут, в Остенде, за Ротом неотступно следует его совесть – Стефан Цвейг, который всеми силами стремится отучить его пить. Когда они встречаются в бистро, Рот пьет молоко. Демонстрируя изрядное послушание, он избегает упреков, но и посмеивается над Цвейгом. Цвейг для него как мать. Он убежден, что алкоголь убьет Рота, уничтожит его талант, сколько бы Рот ни убеждал себя, что именно выпивка вдохновляет его творчество. «Я не могу смирять себя в литературе, не потворствуя плоти», – написал он как-то Цвейгу. У Рота поздняя стадия алкоголизма. Его ноги и ступни опухли настолько, что он с трудом втискивает их в обувь. Уже много лет его тошнит каждое утро, и длится это порой часами. Он почти не ест. Походы в ресторан считает эксцентричной тратой денег, которая может взбрести в голову только богачу вроде Стефана Цвейга. Тем не менее Цвейг изо дня в день уговаривает его поесть. Этим летом в Остенде ему это удается все чаще.
* * *
Эгон Эрвин Киш всегда окружен коммунистами, боевыми соратниками. Словно полководцы, они обсуждают политическую ситуацию, разрабатывают новую тактику борьбы с европейским фашизмом, планируют съезды, комитеты, обращения. Вилли Мюнценберг – харизматический вождь их кружка. В годы Веймарской республики он был царем коммунистической прессы в Германии, основал целую империю ежедневных газет, еженедельников и иллюстрированных журналов с миллионными тиражами. Ему принадлежали издания, выходившие по всему свету, девятнадцать ежедневных газет в одной только Японии, а также российская кинокомпания [30]. Вилли Мюнценберг олицетворяет коммунистическую общественность. Теперь, после запрета всех немецких и многих других его изданий в разных странах, он – могущественный глава Западного бюро пропаганды Коминтерна. Он не интеллектуал, ничего подобного. Он медведь, крепко сбитый невысокий шкаф. В молодости был сапожником. Потомственный пролетарий, выходец из рабочей семьи [31], говорит на тюрингском диалекте. Он не отстаивает линию партии и не плетет интриги. Он прагматик, пропагандист. Когда он появляется, все замолкают, молчат эрцгерцоги, банкиры и министры-социалисты. В комнату входит так, будто проламывает стену. Его сотрудники с опаской смотрят ему в лицо, пытаясь угадать, в каком он сегодня духе. Рядом с харизматическим вождем всегда «три мушкетера». Секретарь Ганс Шульц, шофер Эмиль и телохранитель Юпп. Без этих троих его никто никогда не встречал.
Вилли Мюнценберг заряжен идеями на весь день. Ганс Шульц записывает их, отдает распоряжения, составляет обращения, и так до глубокой ночи. Шульц – высокий, хромой, незаметный, застенчивый. Мюнценберг диктует поручения, а Шульц должен их выполнить. Артур Кёстлер однажды описал, как это происходит: «Напишите Фейхтвангеру. Скажите ему, что статью получили и так далее. Скажите, что нам нужна от него брошюра; мы переправим контрабандой в Германию десять тысяч экземпляров, о спасении нашего культурного наследия и так далее, остальное предоставьте ему, приветы и поцелуи. Затем, Ганс, купите книгу по метеорологии, изучите максимумы и минимумы и так далее, узнайте, какая сила ветра над Рейном, сколько малоформатных листовок мы можем пристроить на воздушном шаре, в какой местности в Германии могут приземлиться воздушные шары и так далее. Потом, Ганс, свяжитесь с несколькими производителями воздушных шаров, скажите, что это на экспорт в Венесуэлу, и попросите посчитать стоимость десяти тысяч шаров. Потом, Ганс…» И Ганс вертится. Нет такого поручения, которого бы он не выполнил. Об этом также заботится «кошачья лапа» Вилли, а именно Отто Кац, он же Андре Симон, как называет он себя здесь, в изгнании. Правая рука Мюнценберга, посол невидимого Вилли, его лицо в мире, но прежде всего его голос. Он говорит на нескольких языках, тогда как Мюнценберг – только на тюрингском; он – прекрасный журналист, чего не скажешь о Мюнценберге. Когда нужно собрать пожертвования среди богатых симпатизантов Мюнценберга, разбросанных по всему миру, Отто Кац – незаменимый человек. Он проводит в жизнь пропагандистскую максиму Мюнценберга: тот, кто жертвует деньги на какое-либо дело, чувствует себя причастным к нему и внутренне связанным. Чем больше денег дает, тем теснее связь. Таким образом, связи Мюнценберга простираются далеко вглубь либеральной буржуазии.