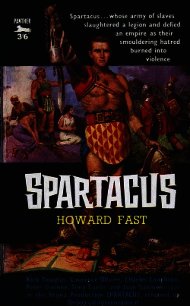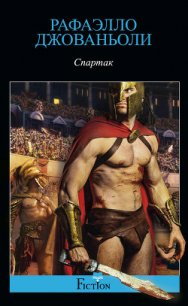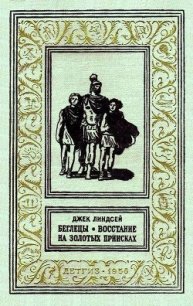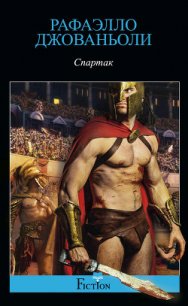Библиотека мировой литературы для детей, том 36 - Джованьоли Рафаэлло (е книги txt) 📗
К тому времени, о котором повествуется в этой книге, Луций Сергий Катилина снискал среди своих соотечественников славу страшного человека. Все боялись его вспыльчивого, необузданного нрава. Он убил патриция Гратидиана, когда тот спокойно гулял по берегу Тибра, — убил только потому, что Гратидиан отказался дать под залог имущества Катилины крупную сумму денег, нужную последнему для уплаты огромных долгов. Из-за этих долгов Катилина не мог получить ни одной из государственных должностей, на которые притязал.
То было время проскрипций [58], когда ненасытная жестокость Суллы утопила Рим в крови. Имени Гратидиана не значилось в проскрипционных списках; более того: он даже считался сторонником Суллы, но он был очень богат, а имущество людей, занесенных в проскрипционные списки, подлежало конфискации. И когда Катилина притащил в курию [59], где заседал сенат, труп Гратидиана и, бросив его к ногам диктатора, заявил, что он убил этого человека как врага Суллы и врага родины; диктатор оказался не очень щепетильным: он посмотрел сквозь пальцы на убийство, обратив все свое внимание на несметные богатства убитого.
Вскоре после этого Катилина поссорился со своим братом. Оба обнажили мечи, но Сергий Катилина, отличавшийся необычайной силой, был также и первым фехтовальщиком в Риме. Он убил брата, наследовал его имущество и тем спасся от разорения, к которому его привели расточительность и беспрерывные кутежи. Сулла и на сей раз постарался ничего не заметить; квесторы [60] тоже не стали придираться к братоубийце.
В ответ на смелые слова Катилины Луций Корнелий Сулла спокойно повернул голову в его сторону и сказал:
— А как ты думаешь, Катилина, сколько в Риме граждан столь же смелых, как ты, и обладающих такой же, как ты, широтой души и в добродетели и пороках?
— Не могу я, о прославленный Сулла, — ответил Катилина, — глядеть на людей и взвешивать события с высоты твоего величия. Знаю только, что я от рождения люблю свободу и не выношу никаких уз. И прямо скажу — ненавижу тиранию, хотя бы она скрывалась под маской великодушия, хотя бы ею пользовались лицемерно, якобы для блага родины. А ведь родина наша, даже раздираемая мятежами и междоусобными войнами, жила бы лучше под властью многих, чем под деспотической властью одного! И, не входя в разбор твоих действий, скажу тебе откровенно, что я, как и прежде, порицаю твою диктатуру. Я верю, я хочу верить, что в Риме есть еще немало граждан, готовых претерпеть любые муки, лишь бы снова не подпасть под тиранию одного человека, особенно если он не будет называться Луцием Корнелием Суллой и чело его не будет увенчано, как твое, лаврами победы в сотнях сражений и если его диктатура хотя бы отчасти не будет оправдана, как была оправдана твоя диктатура, преступными деяниями Мария, Карбона [61] и Цинны [62].
— Так почему же, — спокойно спросил Сулла с еле заметной насмешливой улыбкой, — почему же вы не призываете меня на суд перед свободным народом? Я отказался от диктатуры. Почему же мне не было предъявлено никаких обвинений? Почему вы не потребовали отчета в моих действиях?
— Дабы не видеть снова убийств и траура, которые в течение десяти лет омрачали Рим… Но не будем говорить об этом, в мои намерения не входит обвинять тебя: ты, быть может, совершил немало ошибок, зато ты совершил и много славных подвигов; воспоминания о них не перестают волновать мою душу, ибо, как и ты, Сулла, я жажду славы и могущества. А скажи все же, не кажется ли тебе, что в жилах римского народа еще течет кровь наших великих и свободных предков? Вспомни, как несколько месяцев назад ты в курии, при всем сенате, добровольно сложил с себя власть и, отпустив ликторов и воинов, направился с друзьями домой и как вдруг какой-то неизвестный юноша стал бесчестить и поносить тебя за то, что ты отнял у Рима свободу, истребил и ограбил его граждан и стал их тираном! О Сулла, согласись, что нужно обладать непреклонным мужеством, чтобы произнести все то, что сказал он: ведь тебе достаточно было только подать знак — и смельчак тотчас поплатился бы жизнью! Ты поступил великодушно — я говорю это не из лести: Катилина не умеет и не желает льстить никому, даже всемогущему Юпитеру! — ты поступил великодушно, не наказав его. Но ты согласен со мной: если у нас существуют безвестные юноши, способные на такой поступок — я так жалею, что не узнал, кто он, — то есть надежда, что отечество и республика еще могут быть спасены!
— Да, это был, конечно, отважный поступок, а я всегда восхищался мужеством и любил храбрецов. Я не захотел мстить смельчаку за обиду и стерпел все его оскорбления и поношения. Но знаешь ли ты, Катилина, какие последствия будут иметь поступок и слова этого юноши?
— Какие? — спросил Сергий Катилина, устремив испытующий взор в затуманенные глаза диктатора.
— Отныне, — ответил Сулла, — никто из тех, кому удастся захватить власть в республике, не пожелает от нее отказаться.
Катилина в раздумье опустил голову, затем, овладев собой, поднял ее и сказал:
— Найдется ли еще кто-нибудь, кто сумеет и захочет захватить высшую власть?
— Ну… — произнес, иронически улыбаясь, Сулла. — Видишь толпы рабов? — И он указал на ряды амфитеатра, переполненные народом. — В рабах нет недостатка… Найдутся и диктаторы.
Весь этот разговор происходил под аккомпанемент бурных рукоплесканий толпы, увлеченной кровопролитным сражением, происходившим на арене между лаквеаторами и секуторами; вскоре оно завершилось смертью семи лаквеаторов и пяти секу- торов. Оставшиеся в живых гладиаторы, раненные и истекающие кровью, удалились в камеры, а зрители бешено аплодировали, смеялись и весело шутили.
В то время когда лорарии вытаскивали из цирка двенадцать трупов и уничтожали следы крови на арене, Валерия, внимательно наблюдавшая за Суллой, который сидел неподалеку от нее, вдруг поднялась и, подойдя к диктатору сзади, выдернула шерстяную нитку из его хламиды. Удивленный, он обернулся и, сверкнув своими звериными глазами, принялся рассматривать ту, которая прикоснулась к нему.
— Не гневайся, диктатор! Я выдернула эту нитку, чтобы иметь долю в твоем счастье, — произнесла Валерия с чарующей улыбкой.
Почтительно приветствуя его, она, по обычаю, поднесла свою руку к губам и направилась к своему месту. Сулла, польщенный ее любезными словами, учтиво поклонился и, повернув голову, проводил красавицу долгим взглядом, которому постарался придать ласковое выражение.
— Кто это? — спросил Сулла, опять повернувшись в сторону арены.
— Это Валерия, — ответил Гней Корнелий Долабелла, — дочь Мессалы.
— А-а!.. — заметил Сулла. — Сестра Квинта Гортензия?
— Именно.
И Сулла вновь повернулся к Валерии, которая смотрела на него ласковыми глазами.
Гортензий встал со своего места и пересел поближе к Марку Крассу [63], очень богатому патрицию, известному своей скупостью и честолюбием — двумя противоречивыми страстями, прекрасно уживавшимися, однако, в этой своеобразной натуре.
Марк Красс сидел рядом с девушкой необыкновенной красоты. Так как ей предстоит играть большую роль в нашем повествовании, задержимся на мгновение и поглядим на нее.
Звалась эта девушка Эвтибидой; по покрою одежды в ней можно было признать гречанку; сразу бросалась в глаза красота ее высокой и стройной фигуры. Талия была так тонка, что, казалось, ее можно было охватить двумя пальцами. Прелестное лицо поражало алебастровой белизной, оттененной нежным румянцем. Изящной формы лоб обрамляли кольца рыжих пушистых волос. Большие миндалевидные глаза цвета морской волны горели страстным огнем и непреодолимо влекли к себе. Чуть вздернутый, красиво очерченный носик как будто подчеркивал выражение дерзкой смелости, запечатлевшейся в ее чертах. Меж полуоткрытых, слегка влажных алых губ сверкали белоснежные зубы — настоящие жемчужины, соперничавшие прелестью с очаровательной ямочкой на маленьком округлом подбородке. Белая шея казалась изваянной из мрамора, плечи были достойны Юноны. Кисти обнаженных точеных рук и ступни ног были крошечные, как у ребенка.