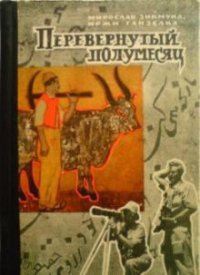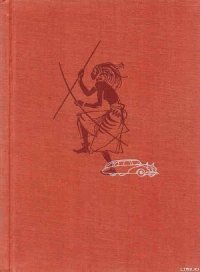Меж двух океанов - Ганзелка Иржи (читать книгу онлайн бесплатно без txt) 📗
Сосед лишь горько усмехается.
— Послушайте, мне уже сорок лет, но до сегодняшнего дня я не видал живого коммуниста. Лишь здесь, в этой яме, я узнал, что такое вообще коммунизм. Читать и писать выучился тоже только здесь: у нас на асьенде никто из пеонов не умел.
— Так почему же вас…
— …упрятали в кутузку? — договаривает он за нас. — В нашей деревне дела шли из рук вон плохо. За день работы управляющий платил каждому по два с половиной колона. Разве на такие деньги проживешь? Пачка приличных сигарет стоит больше. Пара самой дешевой обуви стоила тогда сорок пять колонов — для этого мне пришлось бы работать три недели. Ну и ходили мы босиком. Но ведь какую-нибудь одежонку себе, жене, детям все равно надо покупать. Да и спички, и соль, и из кухонной посуды кое-что. Словом, крестьяне договорились просить управляющего о прибавке для всех. Пошел я — как же не пойти, раз выбрали меня? Потребовал я прибавки, так поступил бы любой другой. Управляющему я сказал об этом по-хорошему, подобающим образом, просто попросил учтиво. Тот ответил, что должен обратиться к хозяину, когда поедет к нему в Сан-Хосе…
Пеон на минуту замолчал; голова его как-то ушла в плечи, взгляд был прикован к полу. А голос зазвучал вдруг слабо, по-стариковски:
— Через три дня приехали полицейские на конях, и я оказался здесь, в подземелье. За то, что я, дескать, бунтовщик и коммунист.
— Ив течение всех пятнадцати месяцев вас ни разу не допросили? — переспрашиваем мы, пытаясь поверить тому, что разум отказывается принимать.
Пеон только махнул рукой в сторону стоящих у стены скамеек.
— Видите? Вон Педро, тот молодой, кудрявый, что так хорошо поет наши старинные песни, — он сидит тут уже год. Парень возле него торчит здесь два или три месяца. Каждый из всех тридцати думал, что с ним что-то должны сделать. Но это прошло, поскольку день уходил за днем и ничего не делалось. Никакого следствия не велось, и ни одного человека не судили. Ни одного! А те два старика, — он показал глазами на угол в конце коридора, — оказались слабонервными. Они сошли с ума.
Сказав это, он глубоко вздохнул и некоторое время сидел неподвижно, будто каменное изваяние. В тишину коридора, нарушаемую командами со двора, где проводились строевые занятия, вплетается монотонный голос старика, одного из тех, в углу. Он сидел на скамейке, выпрямившись, и читал библию. Пеон заметил наши взгляды, обращенные туда.
— Сколько я помню, он это делает изо дня в день. Его посадили сюда несколько раньше, чем меня. А второй рядом с ним — совсем конченый.
Седовласый старик, находившийся возле «чтеца библии», сидел на краю скамейки, сгорбившись, слепо глядя перед собой, и без устали раскачивался всем телом взад-вперед, взад-вперед.
В подземелье нет ни одного человека, который совершил бы преступление и был осужден. По воле костариканской полиции здесь сидят лишь политические заключенные, из которых, вероятно, никто толком не знает, что такое политика и политическая деятельность.
А то просторное и удобное с санитарной точки зрения тюремное помещение наверху, в первом этаже, постоянно готово как можно теплее встретить привилегированных лиц, которых нельзя живьем погребать в подземелье. Эта тюрьма предназначена исключительно для воров, грабителем и убийц.
В середине дня к нам по коридору приплелся старик стражник и как бы невзначай вытащил из кармана телеграмму, разумеется вскрытую.
— Анселка и Сикмунд! Это вам, из Мексики.
Мы жадно пробегаем глазами по спасительным строчкам:
«ТЕЛЕГРАММУ ПОЛУЧИЛИ ПРИНИМАЕМ МЕРЫ ТЧК ПОКА ПОДАВАЙТЕ АПЕЛЛЯЦИЮ СОГЛАСНО ЗАКОНА HABEAS CORPUS ТЧК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАРАКАСЕ ЗАПРАШИВАЕТ КОСТАРИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО».
И приветы.
В двух с половиной тысячах километров от нас есть горстка настоящих друзей, людей, которые знают о нас.
В замке главной решетки звякнули ключи. Рявкают команды, надзиратели освобождают коридор. Спустя пять минут все заключенные набились в камеры. Только мы в своей остались вдвоем. А в коридоре заняла посты ночная вооруженная стража.
«Дзинь!» Из отдаленного угла двора донесся звон рельса. Ага, часовой на расстоянии докладывает начальнику, что он не спит.
«Бим!» — отвечает второй угол.
«Бам!» Третий удар рельса прорезает тишину. Чувствуешь, как ожидание следующего удара до предела напрягает нервы. Когда же будет четвертый?
«Трах!» В коридоре, камере и в голове отдается пронзительная вибрация, звон тянется бесконечные секунды. С лестницы в коридор спускается ночной стражник. В тупой, мучительной тишине подземелья размеренно, словно маятник тюремных часов, стучат о каменный пол кованые сапоги. Стук, стук, стук — к лестнице; напряжение заливает голову горячей волной, кровь бьется в висках.
«Дзинь… бим… бам… трах!»
Маятник кованых сапог отсчитывает свои десять минут. Все на свете можно отдать за два комочка ваты, чтобы заткнуть уши. Шарики из скомканной бумаги не помогают; может, станет полегче, если натянуть на голову свитер. Может, он заменит благословенные двери «двойки», отодвинув от нас угол со ступеньками и рельсом на несколько метров дальше.
«Трах!..» Металлический звук ножом прорезает шерсть свитера и бумагу в ушах. Правда, он несколько притупился, но нет, не даст он тебе погрузиться в глубокий сон, а дремоту разрежет на кусочки. На шестьдесят кусочков, каждый из которых продолжается десять минут. Однако ночь ты переживешь. Отец шестерых детей пережил их четыреста пятьдесят и еще, пожалуй, выдержит тысячу. Лишь те двое в углу, старики с волосами, белыми как снег, сдали, покорившись кнуту, сплетенному из мрака, стали и ожидания.
Шесть часов утра в тюрьме — время, когда спать хочется сильнее всего. Как и все остальные, мы уже сидим на «насесте» у стены и с открытыми глазами наверстываем упущенное за беспокойную ночь. Поспать бы хоть час-другой, не больше. Сегодня мы должны подать апелляцию на основании закона habeas corpus, как это было в телеграмме. Но самого смысла закона мы не знаем. Кто его нам передаст тут?
Тридцатилетний арестант с пепельно-серым лицом только усмехнулся:
— Рига teoria, — сказал он, махнув рукой. В этом жесте отчаяния было больше, чем отвращения. — Чистая теория. По этому закону в Коста-Рике никто не может находиться в заключении без следствия более суток. По истечении двадцати четырех часов арестованного должны… собственно говоря, те, — он показал глазами на. окошко у потолка, — те, наверху, вообще ничего не должны, им только надлежит вызвать заключенного на допрос или передать его в суд. Если первый допрос не даст оснований для обвинения, то заключенного обязаны выпустить. Ну, а я сижу тут пятнадцатый месяц, почти столько же, что и Хорхе, с которым вы вчера разговаривали. Три месяца я каждую субботу подавал обжалование согласно закону habeas corpus. Теперь уже прошла всякая охота. До сегодняшнего дня никго ни о чем меня не спросил, а если спрошу я, почему меня бросили в тюрьму, так те лакеи с винтовками лишь плечами пожмут. А майор — да вы и сами знаете — заорет: «Молчать!»
Остальные заключенные один за другим добавляют свое. У всех одно и то же. Случайности здесь не водятся. Есть только закон для отвода глаз общественности и — практика для нужд полиции.
Вряд ли мы выиграем что-нибудь, но упускать возможности нельзя. Более прочный конец каната держат наши в Мексике, однако и наш, потоньше, мы не имеем права выпустить из рук. Перед полуднем часовой взял от нас апелляцию начальству.
Седьмой день.
Суббота, день двойного разнообразия. К обычному рису с фасолью — кусочек мяса в супе, к обычным часам в катакомбах — кусочек внешнего мира. На обязательный недельный прием явился судья. Он выполняет строго установленные служебные обязанности: принимает и записывает жалобы, пожелания, вопросы и официальные поручения. Принимает, записывает и — выбрасывает, это известно всем. И он тоже знает, что это известно всем. Ни для кого тут он не представляет закона. В том числе и для себя. На нем лишь маска закона. Судья — это разнообразие. Как похлебка с кусочком мяса.