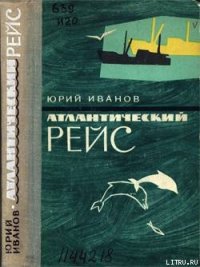Золотая корифена - Иванов Юрий Николаевич (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .txt) 📗
— Не вешай нос, старина, — говорю я и кладу руку на его крепкое плечо, — все утрясется. Напишет.
Тралмейстер молчит. Он лишь слегка поводит плечом, и я снимаю свою руку…
…Проснулся глубокой ночью. С чего бы это? Зыбь мерно, неутомимо раскачивает теплоход. И он валится с борта на борт.
Но отчего так тревожно? В машине постукивает металл о металл да чуть слышны приглушенные голоса. Ах вот в чем дело: тихо. Двигатель молчит, — наверно, опять что-то не в порядке. Последние полтора месяца нас замучили поломки. Собственно говоря, подводит насос. Он гонит воду для охлаждения машины и все время ломается…
Двигатель молчит. Когда с берега приходишь на суд но, то первые дни, сутки голова болит от вечного грохота поршней и шатунов, доносящегося из машинного отделения. Невозможно уснуть: ляжешь, а голова дрожит, вибрирует на тощей, жесткой подушке. Но проходит неделя, другая — и к судовым шумам привыкаешь. О двигателе вспоминаешь лишь тогда, когда он внезапно останавливается и на судне становится непривычно тихо. Тревожно. Вот так сейчас… Ведь мы в океане. Здесь всякое бывает. Даже в Гвинейском заливе может налететь тропический ураган. Закрутит, замотает в своих водоворотах беспомощный теплоход и выбросит его измятый корпус где-нибудь на рифах…
Вот почему от наступившей тишины тревожно замирает сердце…
Жмурю глаза, считаю, но нет, не заснуть. Встать? Лень. Да и куда пойдешь? По нашему судну не разбежишься, не разгуляешься: негде, „Марлин“ невелик.
Может, Веню разбудить? Он спит надо мной, и „бельэтаже“. А я внизу, под ним, в „партере“. Стоит мне поднять ноги, слегка согнуть их в коленях, а потом резко распрямить, как он мгновенно проснется. Такой фокус я проделывал не раз. Но сейчас, пожалуй, не стоит. Пускай спит. Хотя когда у него бессонница, то он меня будит бесцеремонно. Потому что Вениамин Александрович Огнев — мой непосредственный начальник. Он инженер-ихтиолог, а я техник-ихтиолог. Я помогаю ему делать анализы рыб, собираю биологические коллекции и специальными сетками отлавливаю планктон — мельчайших живых существ, обитающих в толще океана. Это нужно для науки: рыбы питаются планктоном. Где планктон, там и рыбу ищи… Ладно уж, пускай спит. Он вчера допоздна просидел в лаборатории над чешуей. Определял возраст сардин.
В своей картонной коробке ворочается Бен. Наверно, снится ему, что прыгает по пальмам, в компания таких же шустрых мартышек, как он сам.
Я забираю Бенку к себе. Он любит спать со мной. Благодарно пискнув, Бен затаился у меня под мышкой, засыпает, тихо посапывая широкими влажными ноздрями. Он попал к нам на судно в Дакаре почти четыре месяца назад. Хорошо помню тот день: пришли в Дакар к полудню, в самый зной, но уже через полчаса около судна волновалась толпа: длинные, сухощавые парни в пестрых одеждах, которых Венька Огнев сразу же окрестил „баскетболистами“, и робкие, молчаливые женщины; на черных лицах их ярко выделялись белки глаз… Сухощавые „баскетболисты“ шумели и совали в руки матросов рогатые раковины, высушенных колючих рыб, статуэтки из тяжелого, как железо, эбенового дерева, шляпы, сплетенные из сухой травы, щиты, обтянутые кожей носорога, и короткие с зазубренными наконечниками копья, В обмен на всю эту экзотику парни просили мыло, одежду.
Мы только что собрались в город. Мне хотелось приобрести в Дакаре знаменитую посуду из тонкого и звонкого дакарского стекла. Но в это время пришел еще один человек. Он был худой и черный, как головешка. Ноги босые, светлые от пыли, руки тонкие, с широкими ладонями. На теле мешок. С тремя дырками: одна для головы, а две для рук. Спереди на мешке красовалась яркая фирменная этикетка: синяя пальма на фоне красного солнца. На спине чернела надпись: „Брутто —60 кг“. Заискивающе улыбаясь, сенегалец извлек откуда-то из-под мышки маленькую мартышку. На шее зверька болталась бечевка.
— Гоп, Бен… — крикнул человек в мешке и дернул бечевку.
Мартышка встала па задние лапы, а по новой команде подпрыгнула и перевернулась в воздухе. Вид у обезьянки был жалкий: испуганные глаза метались в орбитах, она мелко дрожала и, подчиняясь бечевке, все прыгала и прыгала по палубе… Заметив, что я внимательно наблюдаю за зверьком, сенегалец гортанно заговорил, прижимая морщинистую ладонь к развесистой пальме на груди, а потом сунул бечевку в мою руку и показал два пальца. Мартышка перестала прыгать и, сев на палубе, поковыряла своим пальцем носок моего сандалия.
— Черт с ним, с этим стеклом, — сказал я Веньке, — дай мне в долг тысячу франков…
Вечером Бена мыли, выискивали у него больших злых блох. Зашел боцман, измерил мартышку своими узловатыми, мозолистыми пальцами. А утром принес штаны с дыркой для хвоста и рубашку, сшитую из рукава своей тельняшки.
…Чудовищный рык проносится по каюте. Ух, даже сердце останавливается. Это наш судовой старпом. Только у него из всех вахтенных штурманов такая дурная привычка: прежде чем скомандовать подъем, он что есть силы дует в микрофон.
— Команде вставать! С добрым утром, товарищи!
Этой командой начинается каждый день рейса. Уже сто пятьдесят шесть раз день начинается только так: с громоподобного рыка и „доброго утра“. Для старпома оно доброе всегда. И в штиль, и во время зверского шторма, когда утомленные качкой марлинцы хватаются за койки. Штиль ли, шторм, лед ли скрежещет но обшивке, или вязкий туман цепляется за надстройки теплохода, дует ли жаркий, африканский ветер гарматан, для старпома все равно утро доброе и никаких гвоздей…
Жарко. Грудь словно в тисках: горячий воздух не прополаскивает, не освежает легкие, он сушит их. На палубе масляно поблескивают шестеренки, винты. Механики, испачканные с ног до головы, потные и злые, что-то развинчивают, свинчивают. „Полетела“ какая-то важная деталь. Под утро ее выточил на Станке старший механик Григорий Васильевич Арефьев и теперь, тихо сквозь зубы переругиваясь, он вместе с мотористом запихивает ее в маслянистое чрево насоса. Арефьев — невысокий, полный мужчина. И может, поэтому ему тяжелее всех. Глаза его покраснели, веки набухли, русые волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу…
День бесконечен. За работой часы, дни, недели катятся быстро, но сейчас время остановилось. От солнца нигде не укрыться. Оно преследует нас везде. Помотавшись на палубе, я ухожу к себе в каюту, валюсь на койку и накрываюсь сырой простыней. Зыбь все не может успокоиться. С методичностью точно выверенного механизма она раскачивает судно. И когда „Марлин“ кренится на левый борт, в каюту заскакивает раскаленный добела солнечный луч. В нем мельтешатся легкие, прозрачные пылинки… Вентилятор с хрипом выбивается из сил и подпрыгивает на столе: одна резиновая его лопасть, похожая на оттопыренное свиное ухо, порвалась, и теперь вентилятор работает неровно, рывками. Он все норовит сползти со стола и грохнуться на палубу. Или взлететь… ввинтиться, как самолетный винт, в пыльный и душный каютный воздух. Ему ведь тоже, наверно, до чертиков надоело вот так весь рейс крутиться, крутиться. Вентилятор прыгает, рвется, но где ему: на изогнутую ножку накинута петля бечевки. Бечевка привязана к гвоздю, и никуда лопоухому не деться.
В каюту входит разомлевший от жары Огнев, Хороший, приятный парень. Где мы только не побывали вместе, в каких только широтах не качала нас морская волна! Симпатичная физиономия у моего друга, серые, спокойные глаза. Но порой в море бывает так, что от одного взгляда на приятную физиономию напарника по каюте хочется завыть: ух и надоело же все!
Жду. Готов проглотить на пари ржавый гвоздь, что Огнев сейчас предложит сыграть партию в шахматишки. Не в шахматы, а именно в „шахматишки“… И не сыграть, а „сгонять“.
Гулко зевнув, Веня предлагает;
— Сгоняем в шахматишки? А?
Нет, все же тяжело в море. По пять-шесть месяцев… в такой жарище. Стиснув аубы, я дергаю ногой и закрываю глаза… Шахматы… шахматишки. В этом рейсе на переходах и по вечерам мы „сгоняли“ их с Веней уже сто пять раз. Пятьдесят две партии выиграл Огнев, двадцать три — я. Остальные вничью.