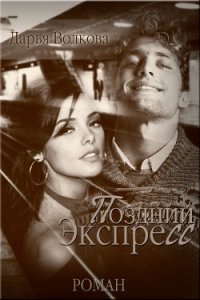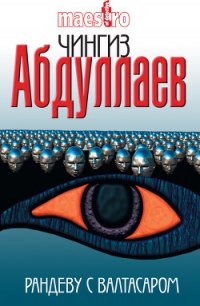Старый патагонский экспресс - Теру Пол (книги полностью бесплатно txt) 📗
Женщина сплюнула, выпила кофе, вытерла ладонью губы и вернула кружку.
Настала моя очередь.
— У вас есть другая кружка? — спросил я.
— Простите, — буркнула она и пошла дальше.
Следом за ней маленькая девочка предложила нарезанную кусками дыню. Я сказал:
— Это очень большие куски, — достал свой складной нож и отрезал кусок поменьше. — Вот так хорошо, да? — Это была моя попытка предотвратить заражение холерой. Правда, потом я обнаружил, что темные пятнышки, принятые мной за семена, на самом деле были жирными мухами.
Горы постепенно отступали все дальше от дороги. Мы обогнули их отроги и теперь пересекали ровную пустошь: это был прямой отрезок дороги. На протяжении следующих часов я старался высмотреть реку Монтагуа, но так ничего и не увидел. Это была Мертвая Долина. Земля в ней была суше и легче, чем песок: настоящая пудра коричневого оттенка, потревоженная движением нашего жалкого поезда. Слой пыли лежал повсюду, даже на кактусах, казавшихся из-за этого мертвыми обрубками. Нет ничего более никчемного, чем мертвый кактус: он не падает и не разлагается, а продолжает стоять, став серым и твердым, как цемент. Другими украшениями пейзажа были колючие кусты и одиночные камни, и еще один остов дохлой коровы, чьи ребра показались мне белее тех, что пришлось видеть в Техасе. Единственным царившим здесь запахом был аромат пыли, покрывающей всю долину. Наверное, это отсутствие всяких запахов можно считать важным признаком пустыни — вторым после отсутствия воды.
Я то и дело вспоминал совет хозяйки отеля: «Не ездите в Закапу!»
Но не попади я сюда, я никогда не познал бы столь необъятной заброшенности. Да, здесь было жарко, но все же терпимо, и разве я не бежал от холода из Чикаго? Я сам выбрал этот путь. И ведь именно здесь проходила караванная тропа в Сальвадор. А кроме того, это был хотя и не самый популярный в наши дни, но исторический путь до Пуэрто-Барриос и так называемого Атлантического побережья. Да, это был трудный путь, но даже если дальше он окажется еще хуже (хотя я с трудом представлял себе это), все равно он был преодолимым.
Меня страшило лишь одно: вот если поезд просто возьмет и встанет, без предупреждения, посреди чиста поля, просто потому, что локомотив совсем сломался, и мы застрянем в этой жаре. Такое уже случалось со мной на дороге, считавшейся гораздо лучшей, в сотне миль от Веракруса, и мексиканцы не могли ничего с этим поделать. Эта колея явно была сильнее изношена, а локомотив вообще держался на честном слове. И я подумал: предположим, что вот он возьмет и заглохнет и не заведется снова. Сейчас десять часов утра, тесные вагоны переполнены людьми, у нас нет запасов воды, и никакого жилья на десятки километров вокруг, даже тени нет ни малейшей. Сколько мы продержимся, прежде чем начнем умирать? Я лишь понадеялся, что в таких условиях это не займет много времени.
И когда через полчаса мы прибыли в город под названием Прогрессе, я ничуть не утешился. Вот как описал это место Олдос Хаксли в 1933 году: «Когда мы покинули станцию, я выяснил, что это место называется Прогрессо. Я разозлился: это показалось мне откровенным издевательством». Прогрессо — это лачуги из необожженной глины, крытые пальмовыми листьями (вот еще одна странность, ведь поблизости не было видно не только пальм, но вообще каких-либо деревьев). И место под названием Ранчо в нескольких километрах дальше выглядело не лучше: никакого прогресса в Прогрессо и никаких ранчо в Ранчо. Такие душные, пыльные, убогие поселки я видел разве что в самых глухих областях Уганды.
Правда, было одно явное отличие. Кладбище в Ранчо оказалось намного больше и легко распознавалось как кладбище. Надгробия были едва ли не больше глинобитных хижин. Они поражали своей солидностью и ухоженностью: настоящие загородные дома с террасами и косыми крышами. Они были явно надежнее хижин. Впрочем, я и тут нашел свою логику. Человек проводит совсем небольшой отрезок времени в глинобитной лачуге, зато эти могилы будут хранить его останки долгие века. Лачуги не в состоянии были пережить подземные толчки, зато могилы стояли непоколебимо.
В этой ужасной жаре мне все время хотелось пить. Во рту так пересохло, как будто я весь день жевал бабочек. Через час я купил бутылку теплой содовой и выпил ее залпом. Но жара и не думала спадать, так же как пейзаж за окном не думал меняться. От полустанка к полустанку мне не на что было смотреть, кроме кактусов да пыльной пустыни. Люди сходили с поезда, люди садились на поезд, люди спали, старуха плевалась. Я все чаще повторял про себя: «А вдруг локомотив заглохнет, что тогда?» Я увидел тощего, как скелет, человека, следившего за нами из клочка тени под кактусом: ни дать ни взять Ангел Смерти.
Я уже совсем отчаялся увидеть что-то новое, пока вдруг возле самого окна не заблестела полоса черной воды: оросительный канал. Этот узкий канал тянулся от самых гор в поля — напоить посевы кукурузы в Малено или табака в Джикаро. Зелень была столь свежей, что показалась настоящим чудом взгляду, утомленному оттенками пустыни. Но, с другой стороны, это был всего лишь жалкий клочок плодородной земли в бурой безжизненной пустыне.
Джикаро имел все признаки недавно случившегося здесь землетрясения. Поселок и так был невелик, и его немногочисленные строения либо были изуродованы глубокими трещинами, либо вообще лишились крыши или одной из стен. Однако все они оставались обитаемыми, и люди как-то старались залатать прорехи и восстановить обрушенные стены. Здесь также можно было увидеть и новые дома — наверняка это были те дома, которые построили встреченные мной в Гватемале американские архитекторы. Но я бы не мог отметить, что правительственный проект оказался особо успешным. Слишком часто попадались дома без крыши, с тремя стенами, стоящие в полном запустении, так как не было желающих довести стройку до конца. В целом город Джикаро лежал в руинах: почти ничего здесь не восстанавливалось после случившейся катастрофы.
Мы приехали в Кабаньяс. Здесь росли кокосовые пальмы. Женщина стояла над горкой кокосов, мачете срезала у них верхушку и продавала пассажирам — по пять центов за штуку. Пассажиры выпивали кокосовую воду, а остальное выбрасывали. Поросята старались засунуть пятачки в отверстие в скорлупе, чтобы выгрызть сердцевину. Однако женщина была большой мастерицей вскрывать кокосы, она делала три насечки, и орех превращался в отличный сосуд для питья, причем отверстие получалось таким узким, что поросячий пятачок в него не пролезал. Поросята визжали и хрюкали от возмущения.
Мы довольно долго стояли в Кабаньясе. Здесь имелся деревянный вокзал, и я подумал, что сам город должен быть где-то по ту сторону большой песчаной дюны. В Центральной Америке так принято: вокзалы расположены не в центре города, а на окраине. Поезд стоял, раскаляясь на солнце, и вагоны стали похожи на духовку. На брошенные кокосы слетались жужжащие мухи, люди громко храпели во сне. Я увидел, что возле локомотива о чем-то толкуют рабочие, и подошел к ним.
— Это ваша станция? — Это спросил меня солдат, один из тех, что охраняли вагоны.
— Нет, — сказал я.
— Тогда марш назад, — и он направил на меня свою винтовку.
Я поспешил вернуться на место.
«Это могло случиться здесь, — подумал я. — Тот самый конец пути».
Старик вдруг разразился громкой речью. Он с чувством поносил это место. Наверное, совсем одурел от жары.
— Кабаньяс! Смех, да и только! Знаете, что значит «кабаньяс»? Это такие маленькие кафе. Вы наверняка видели такие возле отелей. Там продают прохладительные напитки. Иногда их строят на пляже.
Пассажиры молчали, однако старик не унимался.
— Кабаньяс — маленькие и приятные кафе. Вы сидите там и пьете холодный лимонад. Вот что значит «кабаньяс». А они назвали Кабаньяс эту вонючую дыру!
От этого вопля индейская женщина на соседней скамье приоткрыла один глаз, однако увидала всего лишь красного от жары человека, обмахивающегося сомбреро, и заснула снова.
— Это нельзя называть Кабаньяс, у этого есть другое имя.