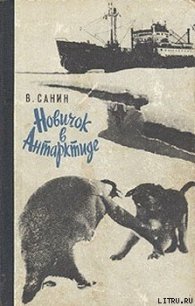Семьдесят два градуса ниже нуля - Санин Владимир Маркович (книги бесплатно без онлайн TXT) 📗
Тогда, в первом походе, вечерами собирались в салоне «Харьковчанки»: беседовали, пили чай с вареньем и слушали, как Алексей поет под гитару романсы на стихи Пушкина и Блока, Есенина и Пастернака. «Я вижу берег очарованный», «Свеча горела на столе, свеча горела» Алексей сам положил на музыку и радовался тому, что стихи таких «сложных» поэтов, как Блок и Пастернак, так хорошо воспринимаются ребятами. Вечера эти стали традиционными, затягивались допоздна, и Гаврилов обычно затрачивал немало усилий, разгоняя сынков «по спальням». А когда по той или иной причине — из-за тяжелого ремонта, больших перегонов и прочего — собираться не удавалось, походники откровенно сожалели об этом.
Потом была долгая зимовка в Мирном, серые для врача будни — почти никакой практики, одни профилактические осмотры; томительное ожидание корабля и еще более томительное полуторамесячное возвращение домой. Прорвался сквозь ревущую, бушующую толпу на причал, расцеловал родителей, друзей, чуть не вдвое выросшую Зайку и, ошеломленный, пожал протянутую Лелей руку.
Больше года мечтал об этой встрече, зачитал до дыр десяток синих листочков, выискивая скрытый смысл, намек в профессионально гладких рубленых строчках, каждую ночь видел Лелю во сне и получил высокую награду — рукопожатие. Понял, что этим жестом Леля определила их будущие отношения, но понять — не значит примириться. Решил объясниться в последний раз и получил ожидаемый отказ.
Истерзанная мужская гордость призвала его поставить на своей любви крест. Стал прощаться — навсегда. В Лелиных глазах мелькнуло откровенное сожаление, но удерживать Алексея она не удерживала, и он ушел. Сутками работал, подменял всех коллег, даже просил их об этом одолжении. Выжигал работой свою неудачную любовь, не давал себе ни дня отдыха. Только Зайку было жалко, ей ведь не понять, почему дядя Леша больше не приходит, почему врет в телефонную трубку, что очень некогда. По Зайке скучал, привык видеть в ней родную дочь, однако и эту святую любовь к ребенку приходилось в себе убивать.
Прошло больше года, и вдруг поздно вечером — звонок от Лелиного отца: извини, мол, Алексей, догадываюсь, как и что, не слепой и не глухой, но у внучки температура под сорок, а Леля на юге. Не раздумывая, сел в «Москвич», рванул, как сумасшедший, по опустевшим улицам к знакомому детскому доктору, вытащил его, сонного, из постели и чуть не в пижаме привез к больной Зайке. Оказалось, скарлатина, ничего страшного, если не допустить осложнений. Взял на неделю отпуск, с утра до ночи просиживал у Зайкиной кроватки, только спать домой уезжал.
Лелю просил не беспокоить, пусть отдыхает; хотел, но еще больше боялся ее увидеть.
Леля появилась неожиданно, о болезни дочери ей сообщила прилетевшая из Ленинграда знакомая. Вбежала, слегка растерялась, увидев Алексея, но виду не показала.
Вечером, когда Алексей собирался уходить, спросила как ни в чем не бывало:
— Занят сегодня?
— Не очень.
— Зайдем ко мне? Хочешь?
— Гонорар?
— Глупый ты, Алеша… По-прежнему все или ничего?
— Осенью ухожу в экспедицию, — невпопад пробормотал Алексей.
— Это обязательно?
— Да.
— Хорошо, все расскажешь у меня.
Бросает человек курить, изнывает, терпит месяцами, а потом смалодушничает, затянется разок — и все насмарку… Не устоял, побежал, как дворняжка, которую поманили костью! И снова завертелась карусель, и снова все стало как было.
В одну из последних встреч Алексей сказал:
— Мне уже под тридцать, да и ты ненамного моложе. Наверное, пора определяться в жизни. Ответь прямо: я у тебя один или…
— Мы договорились об этом друг друга не спрашивать.
— Тогда другой вопрос, полегче: ты видишь перспективу в наших отношениях?
— Еще не знаю.
— Что ж… Понимаешь, Леля, за время, что мы с тобой не виделись, я многое передумал… Мне было трудно без тебя и Зайки и будет трудно, но сейчас я уйду и больше не вернусь. На этот раз твердо, Леля, не вернусь! Поэтому все-таки ответь.
Леля закурила.
— Я подумаю.
— Через неделю я буду далеко.
— Обещаю: если выйду замуж, только за тебя.
— Для меня этого мало.
— А для меня — слишком много.
Оставшееся до ухода в море время они не расставались, и Алексей простился с Лелей, почти уверенный в том, что прощается с будущей женой. Он убедил себя, что нельзя требовать от нее слишком многого, ей необходимо время, чтобы снова решиться на столь ответственный, однажды уже неудачно сделанный ею шаг. Ведь не враг она, в конце концов, самой себе и своей дочери, красота и молодость проходят быстро, оглянуться не успеет — а вокруг пустота.
И вот уже полтора месяца от Лели нет радиограммы. На его четыре — ни одной ответной!
Когда Борис выходил на связь с Мирным, Алексей думать ни о чем не мог: замирал в ожидании, что вот-вот радист обернется, подмигнет и начнет вылавливать из эфира Лелины точки-тире. Но за последнее время Борис кое-что понял и уже не подмигивал, потому что радиограммы доктору шли сплошь от родителей, друзей, сослуживцев — и только.
За час до подъема Алексей встал по звонку, растопил печку и поставил на спиртовку стерилизатор. Присел у капельницы, смотрел на раскаленный таганок, на падающие и мгновенно вспыхивающие капли и думал, поглаживая густую черную бороду.
И в который раз пришел к выводу, что всему виной его податливая, никчемная воля. Будь он настоящим мужчиной, не допустил бы двух этих ошибок — с Лелей и батей.
Не имеет права мужчина становиться игрушкой в руках женщины! Если она любовь свою дарит, как гривенник нищему, — отвергай ее, не бери! Ладно, Леля — его личное дело, сам принимал милостыню — самому теперь и расплачиваться. Но Гаврилов… Зачем выпустил его из Мирного? Ведь знал, точно знал, и кардиограммы подтверждали, что никак нельзя было бате идти в поход. Нажал батя, заставил написать: «Здоров»… Ну, закрыли бы на год станцию Восток — мир бы перевернулся?
И вот результат: не жизнь, а сплошные вопросительные знаки. Из-за него самого, ставшего тряпкой мужчины и врача, поступившегося своей профессиональной совестью. А еще о клятве Гиппократа посмел Валерке говорить, пустозвон!
Так и сидел Алексей, будоражимый этими невеселыми мыслями. Нужно лгать бате, изворачиваться, но удержать его в постели. В постели, на которой его, тяжелобольного человека, подбрасывает и швыряет, как горошину в погремушке! Нужно изворачиваться и объяснять ребятам, почему Петя стал подавать им жалкие крохи гуляша вместо блюда с горой бифштексов. Ограничивать в еде изможденных, доработавшихся до чертиков людей!.. Сорок банок молока осталось — только для бати, Валеры и Сомова, не забыть сказать Пете; двенадцать банок компота и белый хлеб — для них же, кур семь штук — бате на бульон…
И вновь, как бывало, мысли сбились в сторону, а рука сама собой полезла в карман кожаной куртки и вытащила сложенный вдвое листок — последнюю радиограмму:
«Зайка скачет ее маму как волка ноги кормят обе вспоминают полярного бродягу Леля». Холодом повеяло на Алексея от этих строк…
— Не нравишься ты мне, — неожиданно послышался голос Гаврилова.
— Сам себе не нравлюсь, — хмуро ответил Алексей, пряча листок. — Поспи еще минут двадцать, батя, ерунда все это.
— Ствол закупоришь — пушку разорвет, сынок. А человек не железный. Зря в себе держишь.
— Стыдно мне, батя! — вырвалось у Алексея. — Все вкалывают до сто седьмого пота, уродуются, а я руки, здоровье свое берегу…
— А вот это и вправду ерунда. Руки испортишь — ногами нас лечить будешь? Топливо разогреть и палец в трак вколотить мы и без тебя сумеем. Вот ежели поредеет отряд, некому будет сесть за рычаги — тогда настанет твой черед.
— Тяжело ребятам в глаза смотреть…
— Верю. Был у меня такой случай. Ввязалась бригада в неравный бой, а мой батальон комбриг в резерве оставил. Я своими глазами видел, как друзья горели, а пришлось отсиживаться, ждать приказа. Тоже было стыдно, но стерпел, понимал, что так нужно. И ты стерпи. Считай, что в резерве: потребуется — ударишь!