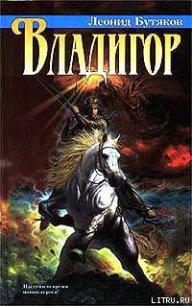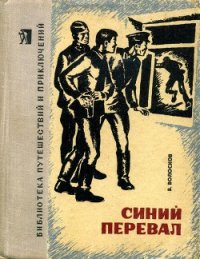Мы идем на Кваркуш - Фомин Леонид Аристархович (библиотека электронных книг txt) 📗
— Худой ваша шобака, — откровенно сказал Санчик и сплюнул. — Как можно твоих братьев боятьша? В парме ш такой пропадешь.
Ануфриев и Санчик добросовестно обили и выскоблили о бревешко ноги, повесили в сенях плащи и тут же оставили ружья. Тихо (даже не скрипнула дверь) вошли в избу. Дружно посапывали ребята, разместившись кто на печи, кто на кроватях. В комнате настоялся запах разморенных теплом пихтовых веток. В углу на нарах соперничали в храпе Борковский и Патокин. Борковский спал смертельно, как могут спать люди, неделю не смыкавшие глаз.
— Что-то больно много вас тут, — удивился Ануфриев, окидывая взглядом спящих. — Ребятни-то откуда понабрали?
В это время Абросимович заворочался и вдруг вскочил. Бессмысленно вытаращил заспанные глаза на Ануфриева, понял, кто перед ним, и раскатился в восторгах.
— Яков Матвеевич, ты ли?! Здравствуй, дружище! Как ты скор на помине.
Они долго не расцепляли рук, сияли оба, как дети. Санчик переминался с ноги на ногу у порога.
Проснулся от шума Саша, а потом открыл глаза и Борис.
Яков Матвеевич повесил на гвоздь рысью безрукавку, пригладил ладонями редкие светлые волосы и грузно сел у стола. Санчик присел на табуретку возле печи, ноги поставил повыше, на перекладинку, руки вытянул на коленях. Руки жилистые, и не поймешь — то ли они смуглые, то ли давно не мытые. На Санчике старый, вытертый по обшлагам китель, с дырками на том месте, где привинчивают награды, и с бурыми пятнами давнишней крови на левом плече и на коротких рукавах.
— Ну как дошли-доехали? — начал Ануфриев, поигрывая веселыми глазами.
— Дойти-то дошли, телят всех пригнали, а вот как обратно пойдем — не знаем, — сказал Абросимович. — Неважно у нас, старина, с харчами. Сухари подмочили.
Борковский велел Саше растоплять еще не остывшую с вечера печь, а пока выложил перед гостями сухари и банку тушенки.
— Где нынче остановились?
— На Язьвинских, за Кваркушем.
— Много оленей пригнали?
— Триста голов. А нас трое. Макар третий. Помнишь? Бородач такой. Вот он еще. Нынче по сотне на человека пасем.
Яков Матвеевич шепнул что-то Санчику, тот поднялся, развязал котомку и положил на стол четырех бело-коричневых птиц.
— Куропаны. Э-эн, как токуют! Ребятам на супишко. Не думали, что вы уже здесь, больше бы настреляли. Поехали-то ненароком, олени отбились, поискать, да вот завернули.
— А я ведь собирался к вам, мяса просить, — сказал Серафим, ловко распечатывая ножом банку, зажатую меж колен. — Говорю, во сне с тобой торговался...
— Хы! — усмехнулся Ануфриев. — Зачем торговаться? В урмане зверья полно, стреляй знай, да ешь.
— Так оно, да видишь, пока не у шубы рукав. Пришли только.
— А что больно рано пришли?
— Снег стаял, чего ждать? Это вам оленей хоть зимой, хоть летом паси, а с телятами другое дело. Раньше угонишь — больше нагуляют.
— Верно, — кивнул Ануфриев.
Саша вытащил из печи ведро с горячим чаем, насыпал на стол кучку сахара. Борковский налил чай в кружки. Яков Матвеевич шумно прихлебывал чай, обхватив кружку ладонями, экономно, помаленьку откусывал сахар. Зубы его не отличишь от сахара, такие же белые, ровные. Санчик так и не подошел к столу, сидел у печи, прислонившись спиной к теплым кирпичам, неторопливо потягивал чай, слушал.
— Худо, говоришь, с харчами? — переспросил Яков Матвеевич. — Добывать надо мяса. Лося на примете близко нет — лицензия на него у меня в кармане, зато медведь есть. Можно добыть. Его все равно убирать надо, недалеко от нашего становища живет. Медведица, при ней медвежата. Подрастут медвежата, она придет за оленями.
— Да как придет, уже приходил, это она оленей отбила, — неожиданно и азартно вмешался в разговор Санчик. — Ануфриев хоть и штарый, а шибко недогадливый....
Яков Матвеевич кашлянул в кружку.
— Верно, Санчик. До седых волос дожил Ануфриев, а ума не накопил... Давай, ты и стреляй, пособи ребятам.
— Ладна, — согласился Санчик.
На этом и порешили. Ануфриев останется искать потерянных оленей, Санчик поедет стрелять медведицу. Но кто-то должен ехать с ним. Серафим Амвросиевич изучающе, будто первый раз видел, посмотрел сначала на меня, потом медленно перевел взгляд на Патокина. И сказал твердо:
— Вы поедете. Смотрите в оба и без мяса не возвращайтесь...
Борис не вставал. Щеки его розовели румянцем, из груди вырывались частые шумные вздохи. С гостями никто не заметил, никто не подумал, почему он лежит.
Я склонился к нему.
— Ты что, старик, всерьез занедужил?
— Это тебе показалось, — прохрипел Борис. — Давай поезжай, да не забывай наказ. Ребята не должны голодать. Понял? Вот и все. Отваливай!
Не очень радовало такое напутствие. Я знал: Борис тяжело болен. Не помогла, видать, баня. Вспомнились его слова, сказанные еще в начале пути: «Ты пойдешь дальше, с Абросимовичем, с ребятами, а я останусь»... И потом, на Усть-Осиновке: «Я дойду до Кваркуша»... И вот — дошел. И слег.
Но раздумывать было некогда: Санчик встал, потянулся за котомкой.
— Крепись, дружба, — сказал я, хотя знал, что такие ободрения только бесят Бориса.
— Сам крепись! — взъелся он и оттолкнул меня горячей рукой.
Как ни урослив, как ни упрям был Петька, но я решил ехать на нем. Молодой конь выделялся отменной силой и выносливостью, а это главное. Александр Афанасьевич оседлал Машку, сел в прямом смысле на своего любимого конька. Длинношерстная, коротконогая Машка унаследовала от предков, шустрых, нестомчивых монгольских лошадок завидную резвость и неприхотливость. А путь нам предстоял не из легких, чуть не в тридцать километров, в непогоду, по вершине хребта.
Надо было спешить, и Санчик тоже поехал на лошади, на голенастом гнедом мерине, уже побывавшем на Кваркуше в прошлое лето. Пастух узнал эту быстроходную лошадь и попросил ее.
В последнюю минуту вышел на улицу Борис, содрал с моей головы кепку и напялил кожаную шапку. Это было единственное, что мы взяли из дому по совету Абросимовича из «теплых вещей». Уже дорогой я нащупал в кармане плаща детские вязаные варежки.
Сразу за «Командировкой» кони круто полезли в гору, глухо постукивая по камням подковами. Вокруг клубились тучи, и все та же невидимая глазом водяная пыль беспрерывно оседала на землю. Плащ быстро намокал, влажнели лицо и руки.
Где-то вверху гулял ветер, но здесь было тихо. Лишь иногда ветер свежей стремительной струей врезался в кипень туч, рассеивал их, и тогда впереди призрачно проявлялся мшистый, усыпанный камнями подъем.
Стороной бежали все три наши собаки. Санчиковы Север и Соболь уже смирились с Шариком и терпели его. При малейшей стычке он падал наземь и с заискивающим повизгиванием раболепно вытягивался у их ног. Север и Соболь — родные братья. Они до того похожи друг на друга, что отличить их просто невозможно. Одетые в пышные шубы, блестяще-черные, с белыми манишками, подтянутые, бодрые, они неустанно рыскали в зарослях кустарников. Псы очень дружны, всегда вместе и на любую из двух кличек прибегают одновременно.
Чем выше мы поднимались, тем больше рассеивался туман, становилось светлее. И вот на какой-то высоте тучи расступились, и мы увидели чистое небо.
— Шкоро шолнышко будет! День будет! — воскликнул едущий впереди Санчик.
Проехали еще немного, и туман совсем поредел. Широко открылись окрестности. Зеленые, синие, а дальше голубые и уж совсем дымчатые горы гигантскими цветными дюнами уходили к горизонту и незаметно терялись, сливаясь с далью. Беспредельная ширь навевала чувство потерянности, оторванности от мира, мешала сосредоточиться, и я на какое-то время закрыл глаза. А когда открыл, увидел Кваркуш в новой, еще более прекрасной яви.
Ветерок затейливо играл тонкими стеблями полярной щучки, трепал мелкую белесую листву ползучих березок, упруго наваливался на заросли ивняков, прижимал их к земле. Под ногами плюшевым ковром расстилались мхи, пружиня, вскидывались кверху после удара копытом бархатистые темно-зеленые верески. Здешние высокогорные верески не такие, как в нашем равнинном лесу. Растут они большими семьями, малюсенькие, в два вершка высотой, курчавые, ровные, будто подстриженные под бобрик, да такие густые, что не проткнешь палкой. Эти вересковые семейства разбросаны по плато там и тут и положи издали на круглые коврики.