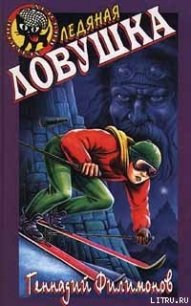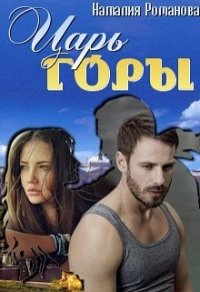Люди, горы, небо - Пасенюк Леонид Михайлович (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
Небо опять хмурится, оно грозит потопом, а нам уже плевать, мы уже втягиваемся переливчато и расслабленно в украшенные ветвями ворота лагеря.
Перевальный поход позади! Маленькое утешение для альпиниста, штурмовавшего грозные кручи, но эти ребята, что обессиленно вышагивают рядом со мной, – они горды. Они сегодня нравятся сами себе. И девушки в ответ на случайный взгляд улыбаются измученно, хотя и с достоинством: мы не были вам обузой, парни! Мы порядочно отшагали – и без нытья и под тяжелыми рюкзаками! Ну, пусть они полегче ваших, но ведь мы-то и народ послабей!
Я ловлю взгляд Самедовой – ее тихие серые глаза вдруг распахиваются навстречу, зацветают усталой нежностью. Это неожиданно и почему-то больно. Но есть боль, которая лечит.
Лагерь неузнаваем. Площадка разграничена по числу отделений листочками папоротника – его нарвали в лесу значкисты. Перед площадкой выложен камнями огромный значок «Альпинист СССР» – предел наших мечтаний в этом сезоне. Альпийскими подснежниками припорошено «небо», а белые «горы» – в лепестках рододендронов, а ледоруб через весь значок горит желтым… И горят по краям площадки вкопанные в землю консервные банки – факелы.
Обстановка торжественна до слез, и только чучело альпиниста с букетом цветов смешит. Еще бы: чучело в штормовке и брюках, а на голове шляпа вроде той, в которой щеголяет Вася Тутошкин. Рот чучела химерически ощерен парой ботинок, подбитых триконями. Наткнешься ночью – хватит кондрашка.
Забота о товарищах – вот она, ее можно даже потрогать руками, она пестрит в глазах, – и мы тронуты, с благодарностью смотрим на значкистов, собратьев по любимому спорту. Они стоят в строю напротив, пока руководство лагеря говорит приличествующие обстановке поздравительные речи.
Потом строй значкистов распадается, и они задаривают нас цветами от души, кричат «ура», поют песни, тискают в объятиях. Мы новообращенные. Мы герои дня.
Лишь Гришечкин хмурится:
– Кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали.
Ко мне вприпрыжку подбегает знакомая латышка в красной куртке с аспидно-черным капюшоном, делает что-то вроде книксена и сует пучок бесхитростных подснежников и говорит какие-то милые, мелодичные в ее произношении латышские слова. И смущается при этом.
Я тоже смущаюсь и говорю ответное спасибо робко, почти неслышно. Как мало иногда нужно, чтобы взволновать и вознести человека на вершины радости! Из-за таких минут, какие мы сейчас переживаем, можно совершить десять перевальных походов кряду!
Что ж, дарите и впредь нам цветы, девушки. Дарите нам цветы… Иногда они живительней глотка воды в час жажды.
Чувство ликующей усталости переполняет тело. Она приподымает дух и вселяет уверенность в самом себе как взмах исполинских крыл. У нас нет за плечами крыльев, но мы их ощущаем почти физически. Мы одолели сегодня первый в нашей альпинистской жизни перевал. Лиха беда начало.
Из столовой доносится оглушительный запах консервированной колбасы, которую поджаривают вне расписаний для нас. О, мы съедаем ее моментально, а до ужина еще далеко. Увы, нас не перекармливают. За соседним столом такой важный Ивасик – музыкальный настройщик из Одессы и прописной интеллектуал – громогласно изрекает по сему случаю:
– Благо тебе, земля, когда царь из благородного рода и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!
– Это что за молитва? – интересуется Тутошкин, задумчиво пережевывая хлеб с горчицей.
– Ты почти угадал, отрок! Речение сие – из Екклезиаста.
Тутошкин пожимает плечами: как видно, сравнение с князьями ему не польстило. Он сидит в своей знаменитой – единственной во всем лагере – шляпе с репшнуром, даже не сняв ее во время еды. Стесняется: у него волосы отросли непотребно. Да и за разудалые колечки он немало уже выслушал насмешек.
Сегодня терпение у него лопнуло. Или, быть может, день такой знаменательный. Уединясь в палатке. Тутошкин смачивает золотистые завитушки водой с одеколоном и подрезает их кривыми ножницами. Теперь он похож на опричника. Даже помолодел, воссиял веснушками.
Гоняю в клубе бильярдные шары. Мой партнер не кто-нибудь – Катя Самедова. В клубе пусто. Ребята отдыхают. Катя бьет по шарам невпопад и после каждого неудачного удара что-то бормочет в свое оправдание.
По радио играют Брамса. Должно быть, так нужно, чтобы в эти минуты, в этом пустом-пустом клубе играли именно Брамса…
Зато вечером здесь толкотня. Танцуем испытанные танго и фокстроты, пренебрегая вальсами, – зал слишком мал, чтобы вальсировать в нем всерьез. А нас много.
Я, впрочем, не особенно силен даже в танго и фокстроте. И все-таки иду на риск, чувствуя, как накаляются от волнения виски. Я иду на двойной риск, потому что приглашаю на танец не просто ряд^м или напротив сидящую девчонку, а Катю Самедову.
Она, еще не поднимаясь, смотрит на меня с сомнением, как бы спрашивая, стоит ли нелепо толкаться здесь, но я думаю, что стоит. Тогда она доверчиво вкладывает узкую прохладную ладошку в мою ручищу.
Катя в тенниске из крученого натурального шелка, на оголенных руках расплылись лунными морями следы когда-то привитой оспы.
Она молчит, что не ново, конечно. Чутко реагирует на мой сбивчивый ритм, и мне удается ни разу не наступить ей на ногу, хотя, казалось бы, при моих способностях… Дыхание у нее ровное, от него моей шее тепло и щекотно. Я люблю ее, я люблю ее! Как-то получается странно, ей всего девятнадцать, а мне тридцать два, но я люблю ее – это уже факт, с которым нужно считаться! Что-то есть в ней упрямое и властное, ломающее мою волю и мое здравое соображение.
Ладно. Нужно успокоиться. Спрашиваю почему-то шепотом:
– Любишь танцевать?
Перед глазами колышутся на ее макушке встопорщенные русые волосы, стриженные коротко.
– Нет, не очень, – говорит она. – Сейчас не очень.
Танцую совсем редко- А в школе любила, потому что там учителя не велели, наперекор было интересно.
– Когда ты кончаешь техникум?
Пучки встопорщенных волос опять сколыхнулись.
– Я не учусь в техникуме. Это Венера приврала для веса, будто мы с ней учимся. Мы обе работаем в Сумгаите – это под Баку, – на заводе синтетического каучука. Операторами.
– Ах вон оно что, – киваю я; мне почему-то все равно, учится она или нет. И даже почему-то приятно, что она работает оператором на заводе. Именно на заводе синтетического каучука. Блажь какая-то! – У тебя есть родители?
– Да. Мама. Она русская. А отец, азербайджанец, погиб в сорок втором на фронте. А я родилась в сорок втором… Так что отца своего совсем не знаю.
Я не успеваю даже посочувствовать, как вдруг слышу ее смех. Она смеется всегда нерешительно, словно дает волю недозволенному чувству. Ее смех всегда неожидан, вот и сейчас – сразу после слов о том, что отец погиб. Она может засмеяться в самом неподходящем месте.
Катя говорит что-то о «мозгодере Додонове», против которого вместе с Венерой они сражались, добиваясь отпуска именно в летнее время, затем о том, что в школе страшно любила математику, уже самостоятельно бралась за высшую… Оказывается, она все же думает поступить в вуз, вот с осени начнет ходить на подготовительные курсы. Беда только, что спорт сколько времени отнимает.
Это вечер, наполненный тихим щебетом Кати. И я тихо глупею от него.
И не могу даже спать, ворочаюсь на жесткой койке, все думаю, думаю… о чем? Мало ли о чем, хотя бы о том, что ей девятнадцать, а мне тридцать два, и что все это несерьезно, и что все это достойно жалости.
Утро выполосканно-ясное. На снежных заплатах, облегающих клыкастую вершину Софруджу, отчетливо видны борозды и строчки: работа камнепадов.
После завтрака узнаем грозную весть: четверка, штурмовавшая Белала-Кая, в том числе Беспалов и Ольга Семеновна, попала в снежную лавину. Еще неизвестно, что с ними в горы из окрестных лагерей вышли спасательные группы опытных альпинистов. Тревожно взлетают над Домбайской поляной ракеты – они почти бесцветны в полыхающе-синем воздухе этого утра.