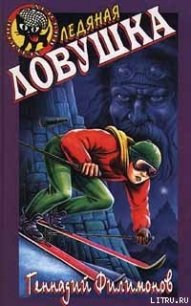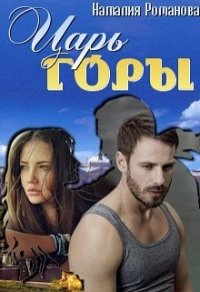Люди, горы, небо - Пасенюк Леонид Михайлович (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
А действительно ли Витька любил маленькую, с черным вороновым крылом Веру? Сейчас, с огромного расстояния, Витьке казалось, что Вера была простовата: любила танцы, и кино, и коньки (и сливочный пломбир, конечно), а в общем, пожалуй, даже книжек не читала, кроме тех, что по программе… как же он этого раньше не замечал?
О нет, ему и тогда нравились другие девушки, кроме той, что с черным крылом. Но с ней по крайней мере не было никаких сложностей. Отношения установились между ними свойские и немного детские, если правду говорить. Совсем еще детские. А однажды ему показалось, что он полюбил с первого взгляда. Витька увидел в трамвае девушку, навсегда запомнившуюся ему. У нее были белые туфельки на низком каблуке – правый, пожалуй, немного был тесен. Она села, чуть только ей уступили место, и слегка освободила ногу. Витька считал, что туфли у нее надеты на босу ногу, настолько чулки были тонки и бесцветны, но теперь он заметил черную пятку. Он как-то слушал по телевизору выступление известного художника, длинно толковавшего об искусстве в быту, об умении одеваться, о чувстве меры… Между прочим, он сказал, что черная пятка на чулке – это страшно безвкусно, она акцентирует (именно это слово – акцентирует!) внимание на несущественном, не главном в одежде и облике человека.
Пока художник говорил, Витька смотрел на него и соглашался. А в трамвае он смотрел на эту черную пятку и думал, какую же ерунду молол тот человек.
Витька перевел взгляд выше: на зеленоватое, с начесом и крупными белыми пуговицами простецки-модное пальтецо. Пряжка свободного хлястика висела ниже талии – явно «акцентировала внимание», но Витька этого не сообразил. Не вспомнил к случаю поучения именитого знатока. А доподлинно приковывало внимание лицо девушки – задорное и в то же время по-женски усталое. Волосы, как бы небрежно обкорнанные ножницами, взлохматило у нее ветром. Строгие стекла очков без оправы увеличивали тень под глазами. И вообще она была худощавая. С милым утиным носом. И с потешной ямочкой на подбородке. Если не считать усталых глаз, как бы увеличенных в своей усталости очками, совсем мальчишка.
Если бы Витька хоть немного знал ее, наверняка бы заговорил, потому что с ней, пожалуй, очень просто (этот смешной нос и вихры на макушке), но и очень интересно (эти вдумчивые глаза). Но и очень страшно, все же признался он себе. Потому что он полюбил ее.
Витька понял это, и хотя все его естество, вся молодая кровь и неподготовленный ум, начиненный литературой о взаимоотношениях полов, о любви, смутно ждали ее, бессознательно к ней тянулись, он, поникший и жалкий, сошел с трамвая, не доехав до нужной остановки. Просто он почувствовал, что девушка и старше, и умнее, и значительней его. И даже если бы Витька ее знал, она могла бы только снисходительно-ласково потрепать его по щеке, сказав: «Послушай, малыш, а ты очень мил…»
Но и яркий образ этой девушки с мальчишескими вихрами после речей Станислава затуманился.
Ну да, конечно, так оно и должно быть. Наверное, и такие речи должны ему прощаться. Ведь он герой. Ему все позволено. А герой ли он? Ведь от своего геройства он ищет выгоды именно для себя, а не для других. Он шел всегда впереди, с треском рвал финишные ленточки и не оглядывался, когда сзади падали. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Геройство у него как личный автомобиль у стяжателя: и гордиться можно дорогим приобретением, и удобно, и тепло, и быстрота передвижения, и на черный день все-таки капитал… Да, да! Если ему это выгодно, то он герой, если нет – пожалуйста, он может уступить возможность проявить лучшие свои качества другим. Геройство – его гигиена: Станислав прибегал к нему постольку, поскольку оно могло укрепить душевное и физическое здоровье.
Наверное, Витька судил излишне зло и в чем-то оставался несправедливым. Ведь и достоинств Станислава не умалить, он многое умел лучше, чем другие, начиная с плотничного ремесла и кончая ориентированием по звездам.
Витьку могло утешить, что и Юрий Викентьевич в чем-то завидовал Станиславу, хотя чего-то в нем активно не мог принять и оправдать. Юрий Викентьевич упрекал Станислава в самодовольстве и шутил, что истины, высказываемые им, непререкаемы, как статьи уголовного кодекса. Юрию Викентьевичу не нравилось и отношение Станислава к искусству. Вспыльчивый Станислав оправдывал в искусстве только сдержанность, только лаконизм, а шеф, такой внешне спокойный, рассудительный, признавался, что ему по душе и пышная декламация, если она звучит искренне, идет от высокой правды чувствований.
– В сущности, человек должен быть самим собою, – говаривал Юрий Викентьевич, – и я бы никому не посоветовал намеренно ограничивать свое зрение шорами, удерживать себя в рамках ложно понятой благопристойности. По-моему, нет ничего для человека страшнее, чем стать манекеном, всегда и всюду демонстрирующим одни и те же сызмала заученные повороты своего «я». По-моему, так: есть чему переучиться – переучись.
Станислав обычно молча кивал, как бы соглашаясь, и делал вид, что слова шефа не про него сказаны. Шеф моралист, кому это не известно?
Между тем Станислав и сам уже мучился сомнениями. Что-то рушилось в его взглядах на жизнь. Впервые он попал в обстоятельства, где, воздавая должное его заслугам, им, однако, без конца не любовались и требовали от него не пиротехнических эффектов, не умопомрачительных прыжков с трамплина, где он почти всегда мог спланировать и устоять благодаря выработанному за годы тренировок мастерству, а будничного труда без аплодисментов, кропотливого выискивания средств для того, чтобы прожить не только самому, но чтобы прожить всем…
Станислав всегда выбирал компанию по своему вкусу и диктовал ей свои условия, навязывал свой образ жизни. Сейчас произошла осечка: здесь по ряду причин он уже не мог быть диктатором. Мало того: здесь довольно скоро распознали его минусы, его самовлюбленную сущность.
А может, все выглядело проще, может, Витька по молодости лет пытался усложнить привычный порядок вещей в человеческом общежитии, будь то крошечный остров или город с многомиллионным населением?
Ведь и впрямь жизнь в их маленьком коллективе худо-бедно текла себе да текла – правда, по неровному, глыбастому руслу. И в атмосфере, несколько затрудняющей дыхание, несколько влияющей на умы. Это тоже правда.
Правда, которая подтвердилась вечером того же дня. Вроде и повода для того, чтобы ворочать руками камни порожистого русла, не было, как и сытная печенка не могла послужить причиной, чтобы темпераменты быстро вскипели и плеснули через края. Наоборот, Станислав, благодушествуя и завидуя самому себе, тому, какой он был в молодости неотразимый, прямо юный бог из древнегреческого мифа, рассказывал о своих спортивных подвигах, о ристалищах высотных плато, где он блистал и где горящими глазами наблюдали за ним прекрасные ревекки в расписных свитерах, тугощекие, мускулистые, белозубые – лед и пламень.
Юрий Викентьевич снисходительно его слушал.
– Но погодите, Станислав, ведь прыжок с трамплина для человека подготовленного не высшая, скажем, доблесть. Не единственное, к чему только и может стремиться индивидуум.
– Ну да, – усмехнулся Станислав. – Почему же вы не попробовали?
– Как-то не тем мысли были заняты, знаете.
– А вы думаете, у вас получилось бы? Видите ли, прыжок с трамплина требует немалой отваги. Со стороны легко иронизировать.
Юрий Викентьевич пожал плечами.
– Конечно, стать прыгуном очень не просто. Я бы, наверное, не смог. Но если ты это можешь, мне кажется, вовсе не обязательно на все события в мире, на отношения между людьми, на «микро» и «макро» смотреть именно с этой точки зрения, с точки зрения удачливого прыгуна… свысока и неразборчиво…
– Ага, мол, ты не осмелишься прыгнуть с трамплина, – поддакнул Витька. – Кишка, мол, тонка… А мне это запросто – раз плюнуть и растереть.
– Щенок! – сказал Станислав, бледнея.
Витька вскочил с чурбана так, что тот покатился в сторону. Станислав был там, за костром. Витька подошел к костру, и языки пламени, почуя порох его одежды, ресниц и волос, изогнулись. Напряженно и с дрожью зазвенел Витькин голос, вскидываясь и опадая, как это пламя: