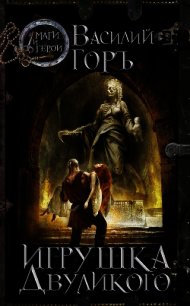Час двуликого - Чебалин Евгений Васильевич (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
Митцинский засмеялся — трескуче, сухо.
— Ч-что означает ваш смех?
— Возьмите себя в руки, князь, — холодно сказал Митцинский, — вы бесспорно национальный герой. Но о серьезном с вами говорить рискованно, пока вы не дадите слово, что все сказанное здесь не станет достоянием других.
— Я... убью вас! — задыхаясь, сказал Челокаев, взявшись за кинжал. — Клянусь богом: еще одна мерзость из ваших уст — и я...
— Господа! Князь! Омар-хаджи! — помертвел Реуф-бей, с ужасом покосился на беседку.
— Вы меня не поняли, князь, — усмехнулся Митцинский, — речь идет о своеобразии манер в вашей боевой группировке. Вы ведь отчитываетесь обо всех контактах перед вашими «шепицулта кавшири», не так ли?
Челокаев молчал, ненавидяще косил глазами.
— Господа, сядьте, прошу вас! — оправился от пережитого и подпустил металла в голос Реуф-бей. Челокаев медленно опустился на скамью.
— Я не могу рисковать делом брата. Я должен быть уверен, что все сказанное о нем здесь останется между нами.
— Князь, Митцинский прав, — блеснул очками Реуф-бей и тонко, неприметно улыбнулся: горячих лошадей осаживают шпорой и хлыстом.
— Мне не пристало что-либо таить от братьев моих по борьбе. Единственное, в чем могу уверить, я доверяю им больше, чем себе, — подрагивал ноздрями Челокаев.
— Тогда наш разговор не может состояться. — Митцинский откинулся на резную спинку, сцепил руки на колене.
— Признаться, он мне стал надоедать, — жестко усмехнулся князь. Встал: — Прощайте, господа, приятной вам беседы, красивых изречений. А нас дела ждут. — Пошел к выходу, струнно натянутый, играя гибкой талией. Реуф-бей не окликнул, смотрел вслед исподлобья. Ничего, не велика утрата — уходит пешка с кинжалом, каких сотни.
У прохода в подстриженных кустах Челокаев остановился, крутнулся бешено назад, блеснул оскалом зубов:
— Плевать мне на Европу и на словоблудие ее! Нам Грузию надобно поднять не хартиями — делом! И я клянусь вам, мы это сделаем к Мариамобе! Запомните — Мариамоба, грузинский праздник! А опоздавших к делу мы и к столу не пустим, в шею, в рыло всю запоздавшую Европу! Так что поторопитесь, господа! — Ушел.
Митцинский дернул щекой, сказал усмехаясь:
— Вы знаете, как Осман его назвал при первой встрече? Всадник без головы. Слепец на лошади, маньяк резни. — Омар встал, выгнул треугольником бровь. Из запавших глаз хищно блестел острый взгляд. Заговорил, ощерив в твердом оскале зубы: — Господа! Князь прав в одном: больше медлить нельзя. Но не Грузию следует поднимать. Она обречена без поддержки Северного Кавказа. Через Кавказ на помощь осажденному русскому гарнизону в Грузию двинется большевистская армия. Я получил письмо от брата. В Чечне и Дагестане к восстанию готовы... — Он сделал паузу и выдохнул звенящим голосом: — девяносто тысяч!
Хвост суки Лейлы дернулся и заколотил по мраморному порогу. Президент, выдернув из-под ее морды сапог, подался всем телом вперед. Пальцы его вошли в шелковистый мех на шее собаки, крутили на ней колечки. Лейла потянулась, зевнула, обдав президента прогорклым запахом псины.
— ...И эти тысячи — не голубая кровь. У них каменные мозоли на руках, буйволиное упрямство и единая вера, перченная фанатизмом. Это — так называемый народ. Идти против него Советам — значит начинать гражданскую войну на Кавказе. Едва ли они решатся теперь на это.
Омар Митцинский торопился, дожимал. Вот-вот свершится то, ради чего покинул родину, скитался, унижался, карабкаясь по ступеням к немыслимым вершинам халифата.
— Настало время, господа. Решайтесь. Брат ждет реальной помощи оружием, деньгами, военными советниками. Он приглашает наблюдателей к себе: Европа должна увидеть его силы своими глазами, убедиться в грозной реальности происходящего.
Реуф-бей молчал. Снял пенсне, стал протирать его платком. Тишина давила осязаемой плотностью на плечи. Наконец сказал:
— Я доложу вышеизложенное президенту. — Поднялся, склонил голову.
Митцинский и Фурнье оторопели — их выпроваживали. Направились к выходу. На кителе Фурнье оскорбленно ежилась складка между лопатками. Реуф-бей усмехнулся, спросил вдогонку:
— Господин Фурнье, вы ведь не видели еще красот Кавказа? Чечня — сердцевина его. Гостей там любят, особенно званых.
Фурнье замедлил шаг. Не оборачиваясь, ответил:
— Я действительно не видел этих красот, Реуф-бей.
Митцинский и полковник скрылись за кустами. Реуф-бей сел лицом к беседке, стал ждать. Наконец сквозь плотную завесу зелени просочился голос:
— Вам не кажется, Реуф-бей, что все они подобны булыжникам на дне реки? Течение времени необратимо, а они обросли слизью и прилипли ко дну. Они забыли, что над Стамбулом течет уже двадцать второй год и наша национальная армия возвращается с победой из Греции. Они до сих пор не могут осмыслить, что их оккупации пришел конец.
— Я это отметил, ваше превосходительство.
— Для Фурнье разрешение нашего Национального собрания на пропуск их войск через Турцию в Россию — простая формальность, не так ли? Я не ослышался?
— Вы не ослышались, господин президент.
— Это становится любопытным. Мы вынуждены разочаровать полковника. В политике часто случается, когда простая формальность становится камнем преткновения. У нас слишком много накопилось своих проблем, чтобы превращать себя в трамплин для франко-английского прыжка в Россию. Я не намерен больше выслушивать ничьих суждений об интервенции в Россию или на Кавказ. Избавьте меня от этого.
«Вы их больше не услышите, президент, — холодно, непримиримо помыслил Реуф-бей, — я постараюсь, чтобы эти дела вас не коснулись».
Острым холодом опахнуло спину. Отныне он начинал свою игру, которая могла стоить ему головы в случае неудачи.
За удачей ждало президентское кресло. Игра стоила свеч.
— Я все понял, ваше величество, — сказал Реуф-бей, передохнув. Не так просто было осознать себя особью, только что отпочковавшейся от материнского организма.
— Иди, — раздалось из беседки. — Да, вот что... коммунисты основали у нас свою партию два года назад, срок достаточно большой, чтобы терпеливо сносить все их шалости. Теперь, признаться, заболела голова, ребенок потерял чувство меры.
— Я займусь им, завтра же.
— Ну-ну, не так резво. По крайней мере, чтобы вопли его не сразу услышали в России.
Омар-хаджи одолевал каменный уклон улицы. Вытертый до блеска булыжник все еще отдавал дневной жар, хотя густая тень от заходящего солнца напитала улицу. Мыльные потоки стирки струились по сточному желобу. Медленно колыхались над головой полотнища сохнущих простыней. Бедность благоухала как могла — пахло прогорклым жиром, кошачьей мочой.
Омар-хаджи толкнул вмазанную в стену низкую дверь, пригнувшись, вошел. У порога стоял на коленях крепкий бутуз годов трех от роду. На плутовской смышленой рожице влажно мерцали большие глаза, в раззявленном красногубом рту сахарно блестели два нижних зуба. Малец качнулся, сморгнул, сказал, с наслаждением перекатывая во рту российское «р»:
— Дядька пр-ришел... саля малеку. — Потянулся к черному глянцу сапога Омара-хаджи.
Митцинский брезгливо отдернул ногу и поймал взгляд Драча. Вахмистр мастерил в углу табурет: рукава засучены, ворох пышной стружки бугрился на полу. Драч встал, трескуче кашлянул, сказал:
— Здравия желаю, ваше благородие. Проходьте. — Придвинул стул. В глазах — понимающая жесткая усмешка: высокий гость побрезговал сыном. Омар-хаджи обошел мальца, сел, огляделся, давя в душе досаду — угораздило же отдернуть ногу.
На голоса вышла из кухни Марьям. Увидев гостя, полыхнула румянцем, опрометью метнулась назад — готовить угощение.
На стене — новый дешевенький коврик. В углу появился пузатый комод. На нем неистово сиял надраенный самовар. Входила в налаженное русло жизнь Драча.
— Как жизнь, вахмистр? — спросил Митцинский.
— Теперь, слава богу, выправились. Если б не вы... — умолк на полуслове. В голосе — натужная собачья преданность.