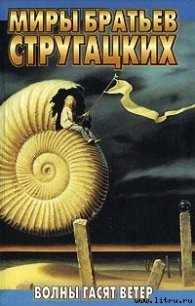Гибель синего орла - Болдырев Виктор Николаевич (бесплатные версии книг txt) 📗
— Вы занимаетесь физикой… на Омолоне?
— Не только физикой, — улыбается девушка, кивая на этажерку.
Средняя полка забита учебниками. Они не застаиваются на полке, об этом говорят истертые их корешки.
В тени абажура стоит фотография в лакированной рамке. Невольно протягиваю руку и беру фотографию. На полинявшей от времени, рыжеватой бумаге красуется живописная группа. В середине этой группы, свободно опершись на саблю, сидит на венском стуле широкоплечий бородач в кожаной куртке, с удивительно знакомым лицом.
Длинные, как у священника, черные волосы падают ему на плечи, богатырскую грудь закрывает пушистая борода. Орлиный нос с горбинкой, густые брови и продолговатые, темные глаза украшают открытое и смелое лицо воина.
На коленях у него небрежно лежит маузер в деревянной кобуре. Кожаная куртка на груди расстегнута и открывает на гимнастерке орден Красного Знамени.
Вокруг лихого командира тесной группой сошлись боевые его соратники в кожанках и гимнастерках, в фуражках и папахах, косо перевязанных лентами. Около бородатого великана сидит, скрестив ноги, юноша в запыленных сапогах и вылинявшей гимнастерке.
Локти лежат на коротком кавалерийском карабине. Фуражка, сбитая набекрень, открывает чуб светлых вьющихся волос. Из-под чуба с фотографии смотрят знакомые ясные глаза, опушенные длинными ресницами; чуть нахмуренные брови разлетаются крыльями, мягко очерченные губы полуоткрыты…
Мария?!
У ног партизана расположилась с кавалерийским карабином Мария, переодетая в мужское платье.
В нижнем углу фотографии разбираю полустертую надпись: «Свобода, Равенство, Братство, 1921 год»…
Но ведь в гражданскую войну Марии еще не было на свете…
— Мария, кто это?
— Михась Контемирский — мой отец, он погиб в двадцать втором году…
— Где? — невольно срывается у меня.
— Двадцатого марта, под Якутском.
— А это… ваш дедушка?
— Нет, — печально улыбается Мария. — Друг дедушки, командир партизанской бригады Каландаршвили. Отец был его ординарцем.
— Каландаршвили? Ну конечно, Каландаршвили! Можно ли забыть лицо этого удивительного человека…
Год назад по дороге на Север в историко-революционном отделе Иркутского музея я долго рассматривал необычные фотографии легендарного партизанского комбрига.
— Мария, как подружился дедушка с Каландаршвили?
— Дедушку сослали в Сибирь из Одессы, а Каландаршвили — из Тифлиса. Они подружились в Иркутске, в 1907 году.
— Дедушка сражался на баррикадах? — тихо спрашиваю я.
— Да… почти. Он помогал восставшему «Потемкину».
Походная жизнь полна неожиданностей: в сердце Омоленской тайги я встретил дочь польского партизана, внучку ветерана революции.
Как сложно переплелись затем наши судьбы!
— А орден, орден Боевого Красного Знамени?
— Орден Каландаршвили получил в сражении под Читой. Там в двадцать первом году он разгромил японских самураев. В этом бою ранили отца.
Мария хмурится, она опускает голову и о чем-то задумывается. Так хочется успокоить ее, прогнать грустные воспоминания. Я осторожно беру маленькую холодную ручку, и она тонет в моих ладонях.
— Так нельзя… — улыбается девушка, осторожно высвобождая руку.
— Покажите свои камни.
— Камни?
Она живо опускается на колени, вытаскивает из ящика тяжелый полотняный мешочек и высыпает на стол груду гладких разноцветных камней. Обточенные водой, они играют всеми оттенками голубых и зеленых красок.
Что это: малахит или яшма? Иногда белые жилки кварца разбегаются по камню.
— Это галька. В лагунах Омолона вода у нас чистая, как слеза, а голубые камни на дне красят воду в изумрудный цвет.
Вдруг среди малахитовой гальки тускло блеснул самородок причудливой формы. Вытянутый изогнутым хоботком, он похож на мертвую золотую улитку без раковины.
— Самородное золото? Где вы его нашли, Мария?
— Дедушка говорит, что это слиток сплавленных самородков.
— Слиток? Золото плавится при очень высокой температуре — в тайге его не сплавить.
— Самородок мне подарил Чандара, когда впервые явился на факторию. Дедушке он подарил шкуру черного медведя…
— Опять Синий хребет!
Долго рассматриваем с Марией золотую улитку. Неужели в Синем хребте скрываются никому не известные россыпи золота?
Глава 5. СТОЛКНОВЕНИЕ
Дружба с Марией явилась сама собой. Незримыми узами соединила нас глубокая близость мыслей и устремлений. Еще недавно совсем чужие, мы стали близкими, как два друга, испытанные в одной беде.
Может быть, нашей быстрой дружбе помогло и одиночество. Ведь у девушки на далекой таежной фактории не было ни подруг, ни товарищей, и она жила одна.
Прощаясь, Мария в последнюю минуту сказала, что больше всего на свете нужно ценить дружбу, уметь делить и горе и радость, быть как одна душа. Я долго держал теплую руку в ладонях, и она не отнимала ее.
А теперь грустно и пусто вокруг. В лунном тумане стынет белая равнина Западной тундры. Холодно мерцают звезды во мраке полярной ночи, и полнеба охватывает светящееся туманное кольцо. Луна в центре огромного небесного венца, и кажется, что смотришь в жерло космической пушки, направленной на близкую планету.
Люди у бивуачного костра затерялись пылинками на дне сияющего стального колодца. Михаил указывает трубкой на венец в небе.
— Большая пурга будет. — В морозном воздухе голос каюра звучит странно и глухо.
В дальнем пути с Омолога нам везло — погода стояла ясная, морозная, в мягких снегах тайги собаки легко тянули тяжелую нарту по старому следу Михаила. Сегодня, в серые сумерки короткого полярного дня, мы оставили позади границу леса и теперь устроили последний привал на снежном панцире Западной тундры, у заструга, обточенного ветрами.
Вязанку дров Михаил прихватил у границы леса. Костер в зимней тундре не греет, спина под меховой кухлянкой мерзнет, коченеют ноги в двойных торбасах, и дрожь пробирает все тело. Отогреваю у огня пальцы и снова пишу дневник.
«…Булат по тебе скучает. Я часто говорю с ним, имя твое услышит и тихо-тихо скулит. Михаил у костра курит, чай в котелке бурлит, а вокруг равнина в лунном тумане спит».
Не замечая, пишу в рифму.
— Чего пишешь и пишешь? — спрашивает каюр, неторопливо выбивая трубочку, точенную из кости.
— Так себе, нечего делать.
— Чай пить надо. Ветер, однако, грянет.
Прячу дневник. Михаил снимает с огня чумазый котелок, разливает в походные кружки дымящийся на морозе чай. Глотаем обжигающий напиток, и тепло разливается по жилам. Хлеб в рюкзаке замерз, хоть руби топором, и мы с волчьим аппетитом уписываем с чаем вареную оленину. Сочная оленина быстро возвращает потерянные силы.
Свертываем лагерь и снова пускаемся в путь. В зимней тундре нам повсюду дорога. Свирепые северные ветры утрамбовывают снег в гладкий панцирь, сдувают сугробы, оставляя лишь голые лезвия застругов.
В Западной тундре заструги вытянуты с юга на север, вдоль потока господствующих ветров. Наши полозья пересекают снежные гребни под углом около 30° (таково направление на близкую усадьбу оленеводческого совхоза). Теперь и в пургу каюр не собьется с пути, пересекая под избранным углом эти ветровые стрелы.
Собаки, повизгивая, мчатся галопом. Булат скачет, прижав уши, вытянув волчий хвост, натягивая потяг в струну. Сейчас, в призрачном свете луны, упряжка колымских псов смахивает на волчью стаю, тропящую след добычи.
По гладкому насту сани скользят почти с быстротой пассажирского поезда. Ветер обжигает лицо. Вцепившись в обмерзший ремешок, затягиваю капюшон кухлянки и вдруг сквозь песцовую опушку вижу мерцающие алмазные блестки. Они вспыхивают и гаснут у горизонта снежной равнины.
— Неужели огни поселка?
Тревожно замирает сердце. Правильно ли я поступил, не выполнив распоряжения, оставив олений табун далеко на юге, в пустынных дебрях Омолонской тайги? Как примет директор наше самовольное решение?