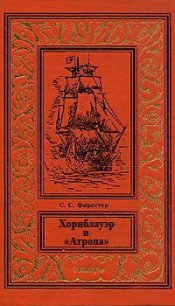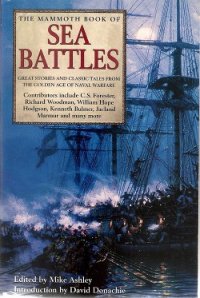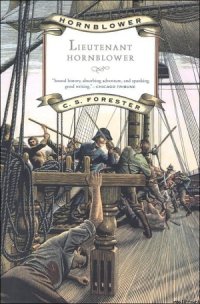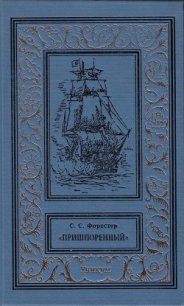Капитан Хорнблауэр - Форестер Сесил Скотт (читать книги регистрация .TXT) 📗
Хорнблауэр вспомнил карикатуры в английских газетах: Бонапарт в виде лягушки, которая раздувается, надеясь превратиться в вола.
— Я считаю это признаком слабости, — сказал граф. — Может быть, вы со мной не согласны? Согласны? Рад, что мои подозрения находят поддержку. Мало того: будет война Россией. Войска уже перебрасывают на восток, и декрет о новом призыве в армию опубликован одновременно с провозглашением короля Римского. Скоро в стране будет разбойничать еще больше уклоняющихся от воинской повинности молодых людей. Возможно, схлестнувшись с Россией, Бонапарт обнаружит, что начал рубить дерево не по себе.
— Возможно, так, — сказал Хорнблауэр. Сам он был невысокого мнения о русских как о солдатах.
— А вот еще более важные новости, — продолжил граф. — Наконец опубликовано сообщение о португальской армии. Оно передано из Альмейды.
Хорнблауэру потребовалась секунда или две, чтобы осознать, что это подразумевает. Постепенно истина забрезжила перед ним вместе со всеми бесконечными следствиями.
— Это значит, — сказал граф, — что ваш Веллингтон разбил Массену. Попытка завоевать Португалию провалилась, и вся испанская кампания вновь в состоянии неопределенности. На краю империи Бонапарта открылась незаживающая рана, которая тянет из нее силы — а чего это будет стоить бедной Франции, я не берусь даже вообразить. Но, конечно, капитан, вы можете более уверенно судить о военной ситуации, и я беру на себя излишнюю смелость, отпуская замечания по этому поводу. Однако, в отличие от меня, вы не имеете возможности оценить моральное воздействие этих известий. Веллингтон разбил Жюно, Виктора и Сульта. Теперь он разбил Массену, величайшего из всех. Лишь одного человека европейское общественное мнение может противопоставить ему как равного, и это Бонапарта. Для тирана плохо иметь соперника во славе. Сколько лет мы прочили Бонапарту? Двадцать? Думаю, так. Теперь, в тысяча восемьсот одиннадцатом, мы считаем по-иному. Мы думаем, десять. В тысяча восемьсот двенадцатом мы скажем пять. Сам я не верю, что империя, как она есть, просуществует дольше тысяча восемьсот четырнадцатого года — скорость падения империй возрастает в геометрической прогрессии — и эту империю обрушит ваш Веллингтон.
— Искренне надеюсь, что вы правы, сударь, — сказал Хорнблауэр.
Граф не знал, какое беспокойство причиняет собеседнику, упоминая о Веллингтоне, не догадывался, что Хорнблауэр каждодневно мучается сомнениями, овдовела ли сестра Веллингтона, вспоминает ли хоть иногда леди Барбара Лейтон урожденная Велели, о флотском капитане, которого считают погибшим. Успехи брата могут заслонить от нее все остальное и Хорнблауэр опасался, что к его возвращению она будет слишком высокой особой, чтоб обращать на него внимание. Мысль эта раздражала.
Он пошел спать странно отрезвленный, прокручивая в голове множество самых разных мыслей — от возможного крушения французской империи, до того, как организовать побег по Луаре. Лежа без сна, сильно заполночь, он услышал, как тихо отворяется дверь спальни; он напрягся от неприятного напоминания о постыдной интрижке, которую завел под гостеприимным кровом. Тихо-тихо раздвинулся полог над кроватью, и сквозь полуприкрытые глаза он увидел в темноте склонившуюся над ним призрачную фигуру. Нежная рука нашла его щеку и погладила, он не мог дольше притворяться спящим и сделал вид, что пробудился внезапно.
— Орацио, это Мари, — сказал ласковый голос.
— Да, — отвечал Хорнблауэр.
Он не знал, что говорить и что делать — он даже не знал, чего хочет. Главное, что он сознавал: Мари нельзя было приходить к нему, рискуя, что их разоблачат, рискуя всем. Чтобы выиграть время, он закрыл глаза, будто не до конца проснулся — рука с его щеки убралась. Он выждал еще секунду или две, и с изумлением услышал легкое щелканье задвижки. Он резко сел. Мари ушла так же тихо, как появилась. Хорнблауэр сидел в растерянности, но поделать ничего не мог. Он не собирался рисковать, идя к Мари за объяснениями, он откинулся на подушку, чтобы все обдумать, и сон, непредсказуемый, как обычно, сморил его на середине размышлений. Он спал крепко и проснулся, только когда Браун принес утренний кофе.
Пол-утра он набирался духа для разговора, который обещал быть весьма щекотливым, только оторвавшись от последнего осмотра лодки с Брауном и Бушем, он поднялся к будуару Мари и постучал. Она сказала «войдите», он вошел и остановился посреди комнаты, которая о стольком напоминала — золотые стулья с овальными спинками и розово-белой обивкой, окна, выходящие на залитую солнцем Луару, Мари с шитьем у окна. Она молчала.
— Я хотел пожелать вам доброго утра, — сказал он наконец.
— Доброе утро, — ответила Мари. Она склонилась над шитьем — свет из окна озарял ее прекрасные волосы — и говорила, не поднимая глаз: — «Доброе утро» — сегодня, «прощай» — завтра.
— Да, — сказал Хорнблауэр, не зная, что ответить.
— Если бы ты меня любил, — сказала Мари, — мне было бы больно тебя отпускать, надолго, может быть, навсегда. Но ты меня не любишь, и я рада, что ты возвращаешься к жене и ребенку, к своим кораблям и сражениям. Это то чего ты хочешь, и я рада, что это у тебя будет.
— Спасибо, — сказал Хорнблауэр.
Она не подняла головы.
— В таких, как ты, женщины легко влюбляются. Не думаю, что я последняя. Не думаю, что ты когда-нибудь кого-нибудь полюбишь или хотя бы поймешь, что это такое.
Хорнблауэр и по-английски не нашел бы, что ответить на эти два ошеломляющих заявления, на французском все был совершенно беспомощен. Он пробормотал нечто невнятное.
— Прощайте, — сказала Мари.
— Прощайте, мадам, — отвечал Хорнблауэр покорно.
Щеки его горели, когда он вышел в холл второго этажа, и не столько от унижения. Он понимал, что вел себя жалко, и что ему указали на дверь. Но его озадачило в словах Мари другое. Ему никогда не приходило в голову, что женщины легко в него влюбляются. Мария — какое странное сходство имен, Мария и Мари — Мария любит его, он это знал и находил несколько утомительным. Барбара предложила ему себя, но он не осмеливался верить, что она его любит — разве она не вышла за другого? А Мари его любит. Хорнблауэр виновато вспомнил, как, несколько дней назад, Мари в его объятиях жарко прошептала: «Скажи, что ты меня любишь», и он с не требующей усилий добротой отозвался: «Я люблю тебя, милая». «Тогда я счастлива» — отвечала Мари. Хорошо, что Мари знает: он солгал — и не удерживает его. Другая женщина одним словом отправила бы его и Буша в тюрьму — такие есть.
А что до того, будто он никого не любил — конечно, Мари ошиблась. Она не знает о мучительном влечении к леди Барбаре, как сильно он ее желал и как сильно желает до сих пор. При этой мысли он засомневался, виновато гадая, столь ли сильно это желание, чтобы пережить свое исполнение? Мысль была настолько неприятна, что он почти в панике поспешил от нее отделаться. Если Мари мстительно хотела вывести его из равновесия, она своего добилась; с другой стороны, если она хотела его вернуть, то была очень близка к успеху. Измученный сожалениями и внезапной тревогой, Хорнблауэр вернулся бы к ней, шевельни она пальцем, но она этого не сделала.
За обедом она была юна и беспечна: глаза ее сияли, лицо светилось. Даже когда граф предложил выпить «за счастливое возвращение на родину», она с жаром подняла бокал. Хорнблауэр был мрачен под напускной веселостью. Только сейчас, перед самой дорогой, он понял, что во взвешенном состоянии последних месяцев были свои светлые стороны. Завтра он оставит эту определенность, устойчивость, бездумную пустоту. Его ждет физическая опасность, о которой он думал почти спокойно, лишь с легким напряжением в горле — сильнее тревожило грядущее разрешение сомнений и неопределенностей.
Он вдруг понял: он вовсе не хочет, чтоб эти сомнения разрешились. Сейчас он может, по крайней мере, надеяться. А если надежды его не оправдаются? Если Лейтон объявит, что капитан Хорнблауэр действовал в Росасе вопреки его приказам, если трибунал сочтет, что «Сатерленд» сражался не до последнего — кто знает, чем может обернуться трибунал? — если… если… если… И приторно-нежная Мария, и неутолимое влечение к леди Барбаре — все это так непохоже на здешнюю размеренную жизнь, неизменную предупредительность графа, здоровую чувственность Мари. Он улыбался, поднимая бокал, но улыбался вымученно.