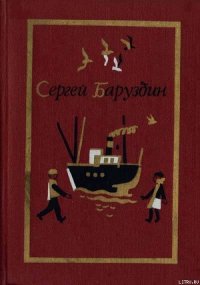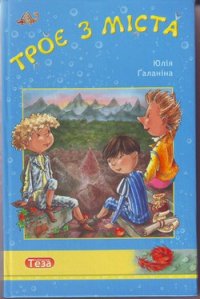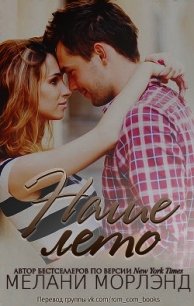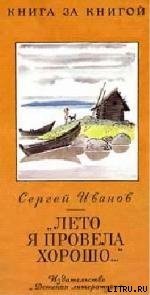Беглецы - Карпущенко Сергей Васильевич (читать книги полные .TXT) 📗
– Кого же прибили на сей раз? – отпивая кофе, спросил Винблан.
– Мавра, дочь здешнего писаря, недурная, между прочим, особа, говорит, что пьяные мужики до полусмерти избили какого-то немца, ссыльного. Просит помочь.
Винблан испугался так, что, вздрогнув, пролил свой кофе:
– Уж не Морица ли Августа, товарища моего? – и, вскочив со стула, затряс кулаком. – У-у, злые собаки! Скорей же, господин Мейдер, скорей!
Когда Иван Устюжинов, Винблан, Мавра и Мейдер заносили избитого Беньёвского в его квартиру, Хрущов уже вернулся от своего приятеля и лежал на кровати с ногами, заброшенными на спинку. Рядом с клеткой из ивовых прутьев стоял недопитый штоф, не забытый Петром Алексеевичем в доме ингерманландца.
– Вишь ты! Угораздило же человека в первый день приезда и на казнь поспеть, и на собственное побитье. Долго жить будет!
– Замест того чтоб языком трясти, – строго посоветовал хозяину Иван, – помогли бы лучше больного уходить. Чай-то сыщется у вас али лохань какая?
Хрущов глотнул из штофа и пошел греть воду.
Все пятеро около часа возились с пострадавшим. Мейдер делал припарки с настоями трав, клал пластыри, прижигал раны ляписом и командовал остальными. Беньёвский вскоре лежал на шуршащем тюфяке в чистом белье, весь залатанный, заклеенный, но положение его казалось безнадежным. Через два часа Мейдер развел руками и сказал, что человек сделал все от него зависящее и пускай теперь потрудится Господь Бог. Раненого он предложил оставить в покое до утра, когда он уже наверняка сможет сказать, будет ли покалеченный жить. Если положение больного будет не слишком безнадежно, он применит другие средства, для выздоравливающих, а если безнадежно полностью, то совсем воздержится от дачи лекарств, бесполезных для умирающих. Но все это будет завтра. Мейдер, Винблан, Иван и Мавра, уходя, с надеждой посмотрели на Хрущова, который снова взгромоздился на кровать. Швед напоследок помянул грязных, вонючих собак, и они вышли.
Но и на следующий день ученый лекарь, найдя больного в полубесчувственном состоянии и с усиливающимся жаром, не смог сказать ничего определенного, однако по острогу пошла гулять молва, что умирает немец, побитый безвинно ватагой пьяных мужиков.
Через три дня, в глухую ночную пору, проснулся бывший гвардейский капитан от скрипа половиц. С тяжестью великой разлепил Хрущов один свой глаз и увидел умирающего идущим по горнице, да и не с трудом, а резво так идущим, проворно и здорово. Слышал Петр Алексеич, как вышел в сени его жилец, как пил там воду, черпая ковшиком из бадьи. Потом вернулся в горницу, уселся на кровать и с улыбкой стал глядеть на притворяющегося спящим капитана.
– Не стоит притворяться, господин Хрущов, – сказал вдруг Беньёвский. – Я знаю, что вы не спите. Скажите, не сыщется ли у вас чего-нибудь поесть – я чертовски голоден. Да и от стакана водки не отказался бы.
– Сыщется, пожалуй, – ответил просто бывший капитан. – Да токмо любопытно знать, на что затеял ты весь оный машкерад?
Беньёвский тихо рассмеялся:
– Без машкерадов, сударь, жизнь сия была бы чересчур скучна. Или я не прав?
6. МУЖИКИ НИЗКО КЛАНЯЛИСЬ
Артель зверодобытчиков – всего двадцать шесть душ, народец, тертый в деле, бывалый, крепкий, – после неудачного вояжа на острова решила в Охотск не возвращаться, а зазимовать в Большерецке. Обстроились – срубили просторную избу об одном покое, с печью в самой середке, в пупе, чтоб во все стороны грела. У артели этой и правила жизненные артельными были, общими для каждого, что держало их вместе крепко, как держатся семена в кедровой шишке. Поднимались утром не вразброд, по одному, а по зову старшого, после третьих петухов уже не спавшего. Варили кашу в общем котле, перед завтраком молились на один артельный образ и принимались за еду. Потом отправлялись кто куда. По двое, по трое, а то и по одиночке уходили на мелкий свой промысел за обязательным коштовым пятаком – добычей, возложенной на каждого. Кто зверя шел стрелять, кто, подрядившись на казенных службах, – в поденную работу, кто шлындал по острогу, продавая что-то или меняя. Собирались к обеду, а потом и к ужину, приготовленному дневальным кашеваром. Добычу сдавали артельному казначею, который в приходную книгу записывал на каждого поименно. Утайка считалась провинностью неизвинительной – узнают артельщики о заначке хоть одной деньги, побьют и прогонят. Принес с излишком – тоже сдавай, на будущее в зачет пойдет, когда пятак добыть не сможешь. В конце каждого месяца делал казначей расчет, смотрел, кто с избытком внес, кто с недостатком. Никого при этом не корили, а вместе думали, где сыскать недоимщику промысел более выгодный. Но недоимщиков, по правде сказать, было мало. Каждый о деле общем радел с душой, потому что знал: между своим и общим в артели разницы нет. Вот так и жили они, как прутья в метле – крепкой, густой вязанкой.
Обида же, какую учинил им сдуру камчатский начальник, отхлестав кнутом Гундосого Федьку, вышла обидой для всей артели, словно на двадцать шесть помножилась разом, взбаламутила, зажгла сильную к острожской власти злобу.
А в то время, когда постучался к ним в избу Устюжинов Ваня, сидели артельщики вокруг своей печки по лавкам и трескали ячневую кашу с хлебом. Но ели они без удовольствия, ковыряли деревянными ложками нехотя, потому что были смущены вышедшим у них совсем недавно разговором, в котором поматерили они друг дружку крепко за ненужное побитье ими человека, никак для безобразия такого не подходившего. Поэтому и не слышно было обычных трапезных шуток, скоромных разговоров – молчали мужики, только чавкали их рты, набитые кашей.
– Мужики! – загородив неширокую дверь косой саженью плеч своих, с порога начал Устюжинов. – Простите, что на ночь глядя, но разговор мой безотлагательный...
– Ну, заходь, коль приспичило, – смирным, смоляной густоты баском отозвался старшой, Суета Игнат, тот самый, что нес треску, когда повстречали артельщики Беньёвского. – Кашки-то нашей поклюешь?
Иван смело шагнул в горницу.
– Нет, не хочу. Противно мне с вами из одного котла есть.
– А чего ж так? – тревожно двинул Суета рябой от оспы щекой.
– Да за душегубство за ваше!
Мужики, кто еще ел, сильнее застучали ложками, совестливо прятали глаза. Иван Устюжинов, которого уважал весь Большерецк за силу, грамотность немалую, перенятую им у священника-отца, острый рассудок, твердость в разговоре и кулачном бою, двадцатилетний этот юноша, знали они, собирался сказать им сейчас то, что они и сами в шумном споре признали напрасным и даже греховным.
– Так что же вы, трясолобы, учинили? – спросил Иван, стоя среди мужиков. – Ни в чем не повинного человека едва ль не убили! Как же сие понимать? Али закон христианский не про вас?
– А ты что за ходатай такой? Откель выискался? – неуверенно вякнул кто-то.
Но Игнат Суета крикнул властно:
– А ну-ка там! В плошку свою уткнись! Малый дело говорит, и вина в оном деле на нас несомненная лежит – били немчика того от дури да от пьяной злобы, на Нилова осердясь да еще на Холодилова-собаку. Человек же сей нам сразу невинным мыслился. А мы правого бить не обучены, и сами уж совестью нашей немало побиты есть и перед немчиком тем слезно повиниться хотели.
– Истинный Бог, хотели! – грянули разом сразу несколько голосов. Другие артельщики прогудели что-то, стесняясь, должно быть, виниться в открытую.
– Ну, вижу, вселил в вас Христос разумение! – улыбнулся Иван. – Виниться – так виниться, но делайте дело сразу, а то вам какая другая блоха под хвост вскочит, передумаете! Сейчас идти надобно!
– Давай! Давай! – завопили мужики, вскакивая с лавок и роняя на пол деревянные миски. – Тотчас к нему идти хотим! Пущай простит нас! Виниться, виниться хотим!
– Да уж ночь на дворе, – урезонивал кто-то.
– Пущай ночь! Грех свой скинуть прочь хотим!
– Гостинец, робята, гостинец ему отнесть надобно! – предложил другой, и все его поддержали: